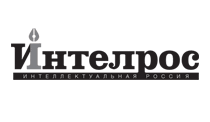
Вступление
Новейшие исследования подчеркивают перформативные и коммуникативные аспекты терроризма, в том числе и революционного[1]. Сам факт убийства и окружающие его обстоятельства, как правило, обдуманные в мельчайших деталях, вплоть до выбора костюма террориста[2], наглядно разъясняли представления революционеров о справедливости и несправедливости и «доказывали», что «автономная» личность, желающая жить «особой» и «насыщенной» жизнью, отвечающей ее «внутренним» желаниям, потребностям и убеждениям, не беспомощна перед лицом всесильной автократии и ее полицейского аппарата.
После террористического акта в нелегальной прессе могли распространяться листовки, памфлеты и статьи, объяснявшие значение удавшегося или неудавшегося покушения, восхвалявшие террористов или обличавшие политический режим (вплоть до дегуманизации жертв террора)[3]. Восхваление террористов как «героев» и «мучеников» играло важнейшую роль в привлечении симпатий, денежных средств и новых сил к «делу террора» и в консолидации террористического сообщества с его ригористской революционной моралью. Таким образом создавалось то, что Марина Могильнер назвала «мифологией»[4] участников революционного движения.
Для восхваления террориста использовался экспрессивный, полный религиозных аллюзий язык. Под термином «экспрессивизм» канадский философ Чарлз Тейлор подразумевает радикальный протест романтиков против «классицистического акцентирования рационализма, традиции и формальной гармонии»[5] в пользу свободы личности, воображения и чувства. В основе протеста лежало восходящее к временам Руссо представление о том, что человек является существом, обладающим «внутренним голосом». Правильная жизнь мыслилась в рамках «экспрессивизма» как соответствующая внутренним движениям человека[6]. В текстах революционеров-семидесятников народническая пропаганда выступала не столько утилитарным средством в борьбе с самодержавием, сколько как «потребность вносить свое “Я” в окружающую нас жизнь»[7]. При этом правильно построенная жизнь мыслилась тесно связанной с добродетелью самопожертвования. С переходом к террору и формированием образа террориста-«мученика» эмблематичным выражением самопожертвования становилась смерть на эшафоте: террорист возлагал собственную жизнь на «алтарь служения народу»[8], приближая таким образом «торжество» социализма.
При этом народники сознательно ориентировались на христианскую мартирологическую модель. Если под ключевым моментом публичного мученичества в раннем христианстве понимать «признание в христианской вере в государственных учреждениях и на суде в присутствии зрителей»[9], то революционеры эксплуатировали именно это широко распространенное представление, вызывая в присутствующих на суде и читателях правительственных отчетов и пропагандисткой литературы сочувствие и изумление. Этим революционеры надеялись склонить на свою сторону общественное мнение.
Мысль о том, что для достижения общественных идеалов нужны «энергические, фанатические люди, рискующие всем и готовые жертвовать всем»[10], вытекала из всей логики развития революционного движения в 1860-е годы и получила свое, возможно, наиболее яркое литературное выражение в «Исторических письмах» Лаврова. Согласно Лаврову, стране нужны были «мученики, легенда которых переросла бы далеко их истинное достоинство, их действительную заслугу»[11]. Между идеей, что прогрессом движут «критически мыслящие личности», и утверждением, что только «фанатики» и «мученики» могут эффективно бороться с самодержавием, было явное противоречие. Для народников, воспитанных на литературе 1860-х — как, впрочем, и для их последователей, — идея прогресса, «каждый шаг которого покупался ценой страданий миллионов», соответствовала в первую очередь внутренней «потребности добра и жертвы»[12].
Этот аспект революционной «мифологии» был очевиден и некоторым сотрудникам Третьего отделения задолго до появления террористического движения. Так, в связи с нечаевским делом утверждалось, что среди подсудимых есть люди, которые «выступают апостолами нового социалистического учения, впервые заявляемого громогласно, апостолами, готовыми принять за свою веру мученический венец»[13]. Не в последнюю очередь благодаря «хождению в народ» мысль о сознательном мученичестве, построенном по аналогии с христианской моделью, окончательно прижилась в революционных кружках.
«Не будь мучеников, — писал попович[14] Иван Ковальский в 1878 году, — не будь начато христианство кровью, не пустило бы оно глубокие корни в общество»[15]. Аналогично выражала свои мысли и Наталья Армфельд в письме к Варваре Батюшковой:
«Да если не будет примеров, как люди гибнут за известное дело, если бы не было мучеников, то не было бы и последователей. Я думаю, что теперь время мучеников, время величайшего гонения, и вот почему думаю, что скоро братья мои будут отмщены»[16].
«Предсмертные письма» к товарищам
Помимо самого террористического акта, наиболее эффективным средством распространения послания террористов были не столько памфлеты и апологетические статьи, сколько так называемые «предсмертные письма» осужденных на смерть. Причиной тому было уже упомянутое представление о правильной, благой жизни. В эпоху реализма «истинность» литературы, ее соответствие социальной реальности, становилась основной эстетической категорией. Вместе с тем реализм, претендуя на изменение существующей социальной реальности, выполнял и воспитательную функцию[17]. Не удивительно, что в таком контексте письма людей, написанные перед лицом смерти, воспринимались как документы, свидетельствующие о внутренних побуждениях и убеждениях террористов. «Предсмертное письмо» превращалось таким образом в документальное «доказательство» бескорыстности исключительной личности, жертвующей собой, и вместе с тем — в инструмент преображения реальности.
Первым революционером, оставившим такой документ, считается Валериан Осинский — глава небольшого террористического кружка на юге империи. Члены кружка покушались в начале 1878 года на жизнь товарища прокурора Котляревского, а два месяца спустя убили штабс-ротмистра Гейкина. В январе 1879 года Осинский был арестован и приговорен вместе с Софией Лешерн фон Герцфельд (впоследствии помилованной) к смертной казни.
С товарищами Осинский прощался, «следуя христианскому обычаю», мысленно обнимая своих друзей и прося «не поминать лихом»[18]. Интимные интонации при этом соединялись с героическим пафосом. Себя и свою гражданскую жену Осинский рисовал в виде бесстрашных борцов, презирающих смерть:
«Мы ничуть не жалеем о том, что приходится умирать — ведь мы же умираем за идею, если же и жалеем, то только о том, что пришлось умереть почти только для позора околевающего монархизма, а не ради чего-либо лучшего и что перед смертью не сделали того, чего хотели»[19].
Товарищам Осинский желал умереть «производительнее нас» и не тратить «дорогой» крови попусту. Вместе с тем он выражал уверенность в том, что «дело террора» отныне займет надлежащее место в арсенале революции: «Наше дело не может никогда погибнуть — эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти»[20].
Подобные оценочные суждения (социализм бессмертен, террор неизбежен, смерть за идею — благо), пояснявшие отношение пишущего к собственным стремлениям, жизненным целям, ценностям революционного сообщества и его внутренним разногласиям[21], позволяли террористу определить свое место в революционной борьбе. Располагая себя в этой исторической борьбе на стороне «прогрессивных» сил человечества, противостоящих «монархизму», «реакции» и социально-экономическим «угнетателям», террорист не только давал положительную оценку своей (короткой) жизни, но придавал ей особое значение: жизнь и смерть террориста становились инструментом, с помощью которого приближалась эпоха социализма.
«Предсмертное письмо» апеллировало к моральному сознанию радикалов, вызывая, вместе с рассказами о насилии местных властей по отношению к осужденным[22], сильный эмоциональный эффект[23]. Трудно переоценить агитационное значение подобных текстов. В глазах революционеров и их сторонников письма казненных служили «доказательством» того, что террорист ставил свои «личные» интересы ниже интересов «общественных» и действительно умер за «бессмертную» идею «мученической» смертью.
Так, в «Листке “Земли и воли”» утверждалось, что слова Осинского дышат «беспредельной преданностью идее свободы», превозносились их особые «искренность и простота» и давалась клятва продолжить «святое дело освобождения народа»[24]. Вслед за казнью была, очевидно, также предпринята попытка имитации христианских мартирологических практик. В фонде Дебогория-Мокриевича хранятся пряди волос с головы Осинского и еще двух казненных, скорее всего Бранднера и Свириденко. Также в описи значатся «два куска дерева с виселицы»[25]. Помимо попытки обрести «мощи» казненных, революционеры использовали память о погибших для прямых призывов к террору. Так, на известном «Липецком съезде» было сначала зачитано письмо и в созданной таким образом крайне эмоциональной атмосфере произнесен смертный «приговор» Александру II[26].
10 августа 1879 года, спустя почти два с половиной месяца после смерти Осинского, был казнен один из соучредителей второй «Земли и воли» Дмитрий Лизогуб, сын состоятельного украинского помещика, пустивший значительные суммы на «общее дело». В своем «предсмертном письме» Лизогуб, подобно Осинскому, выражал уверенность в правоте и неизбежном успехе революции. Осмысляя себя как носителя революционных добродетелей, перешедшего со стороны «угнетателей» на сторону «угнетенных», он высказывал уверенность в неизбежности победы последних над первыми. Близкая смерть или вечное заточение становились, таким образом, главным свидетельством того, что революционер прожил цельную жизнь, направленную на осуществление революционных этико-политических идеалов. Естественно, что такой нарратив не оставлял места для сомнений или сожалений. В полном отсутствии последних Лизогуб пытался заверить как своих товарищей, так и, очевидно, себя самого:
«Что касается меня лично, то я не сожалею о своей участи; я знаю, что я погибаю, я знаю, сколько еще осталось моих товарищей, я знаю, что, несмотря на все преследования, число их увеличивается с каждым днем, наконец, я знаю, что самая правота дела говорит за его успех, — зная это, я спокойно жду конца и предпочитаю быть заживо погребенным, чем спокойно жить в коже грабителя и угнетателя»[27].
Свой вклад в зарождение традиции революционного «предсмертного письма» внес также молодой народник, сын малоимущего рабочего из Николаева Соломон Виттенберг[28]. Он был главой небольшой революционной группы, тесно связанной с кружком Осинского, и инициатором плана покушения на Александра II, предполагавшего взорвать железнодорожное полотно под царским поездом. Заговорщики были арестованы благодаря случайности, а Виттенберг вместе с товарищем Иваном Логовенко, а также с Дмитрием Лизогубом и еще двумя революционерами, проходившими по так называемому «Процессу двадцати восьми», казнены[29]. В своем предсмертном письме Виттенберг писал товарищам:
«Дорогие друзья! Мне, конечно, не хочется умирать, и сказать, что я умираю охотно, было бы с моей стороны ложью, но это не бросает тени на мою веру и стойкость моих убеждений: помните, что самым высшим примером человеколюбия и самопожертвования был, без сомнения, Спаситель; однако и он молился: “И да минует меня чаша сия”. Следовательно, как могу и я не молиться о том же? Тем не менее и я, подобно ему, говорю себе: “Если иначе нельзя, если для того, чтобы восторжествовал социализм, необходимо, чтобы пролилась кровь моя, если переход из настоящего строя в лучший не возможен иначе, как только перешагнувши через наши трупы, то пусть наша кровь проливается, пусть она падет искуплением на пользу человечества; а что наша кровь послужит удобрением для той почвы, на которой взойдет семя социализма, что социализм восторжествует и восторжествует скоро — это моя вера! Тут опять вспоминаю слова Спасителя: “Истинно говорю вам, что многие из находящихся здесь не вкусят смерти, как настанет царствие небесное”»[30].
В цитируемом тексте фигуру Иисуса Христа можно рассматривать как идентификационный символ самопожертвования и политического воскрешения страны в будущем. Выстраивая аналогии между революционной историей и христианской историей спасения, Виттенберг указывал на особое значение собственной жизни и смерти для дальнейшего развития истории человечества.
В основе утверждения, что смерть за социализм может и даже должна послужить «искуплением на пользу человечества», лежало представление о принципиальном различии между «обычной» жизнью, посвященной личным и семейным интересам, и «высшей» жизнью, посвященной «освобождению» человечества[31]. Представления о революционной морали также включали в себя важный аспект религиозной этики, а именно несовместимость труда для Господа с требованием вознаграждения за труд[32]. Предполагалось, что вклад в «общее дело» осуществляется революционером бескорыстно и безвозмездно, а единственной наградой становится осознание выполненного «долга» перед «народом». Таким образом, смерть на эшафоте становилась эмблематическим выражением благой жизни, прожитой не впустую, но ради «торжества социализма». Последнее приобретало в письме Виттенберга, благодаря отсылке к евангелию от Матфея (16:28), еще и эсхатологическую окраску, что в свою очередь соответствовало темпоральной структуре социалистической модели истории с ее переходом из «царства угнетения» к «царству совместного труда».
Таким образом укреплялась традиция, в рамках которой приговоренный к смерти превозносил собственную гибель с помощью мартирологических представлений и определения собственного места в телеологическом процессе истории прогресса[33]. Причисляя себя к избранному сообществу борцов за социализм, террорист освобождал себя от необходимости решать «проклятые вопросы» революционной этики[34] и вместе с тем помогал укрепить элитарное групповое сознание своих сторонников.
Разумеется, символом самопожертвования и прогресса мог выступать не только Иисус Христос, к которому революционеры обращались на протяжении всей истории «подпольной России» (Кравчинский)[35], но и другие традиционные фигуры. Так, сам Виттенберг упоминал в конце своего письма Галилея, который, согласно популярному мифу, произнес по окончании инквизиционного суда «И все-таки она вертится!»[36]. Таким образом Галилей превращался в письме Виттенберга в мартирологическую фигуру, равнозначную Христу.
Превращая личное предсмертное письмо в инструмент агитации, террористы сознательно размывали границу между целенаправленной пропагандой, характерной чертой которой было сознательное упрощение и использование риторических приемов, таких как гипербола и эмфаза, с одной стороны, и «интимным» документом, с другой. Превращая собственную жизнь в инструмент агитации, то есть вписывая ее в историю прогресса и — что не менее важно! — расставаясь с ней на плахе, террористы добивались максимального агитационного эффекта. Выстраиваемая Виттенбергом с помощью отсылки к сюжету «Моления о чаше» дихотомия между внутренним неприятием смерти и утверждением полезности последней для «дела» революции, только усиливала этот эффект.
Вера в социализм
Народовольцы вполне сознательно создавали образы «мучеников», «легенда которых», по уже процитированным словам Лаврова, «переросла бы далеко их истинное достоинство, их действительную заслугу». В этом смысле особенно выделялся Андрей Желябов. На формальный вопрос о его вероисповедании он, в отличие от других подсудимых, начал подробно говорить о своем отношении к религии. Как и большинство народников, Желябов осуждал православную церковь, высказывая при этом симпатии к Иисусу Христу. Он подчеркивал общность между революционерами и «настоящими» христианами. И те и другие разделяли, согласно Желябову, представление о единстве «слова» и «дела», представление о том, что «доброе» дело должно совершаться безвозмездно — вплоть до самопожертвования, а также верили в ценность социальной справедливости:
«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать, — такова моя вера»[37].
Свои слова о христианстве Желябов еще раз подчеркнул на эшафоте примечательным жестом, поясняя таким образом в очередной раз представления революционеров о добре и зле, справедливости и несправедливости. Подобные послания адресовались публике — как потенциальным сторонникам, так и к оставшимся на воле террористам, поддерживая в их среде представление об элитарности революционного братства. Как и все первомартовцы, за исключением Рысакова, Желябов предварительно отказался от исповеди и причастия. Однако, стоя на эшафоте, фактический лидер народовольцев поцеловал предложенный ему священником крест. Так же поступили и остальные осужденные на смерть.
Советский историк Троицкий рассматривал этот жест как своеобразный аргумент: таким образом первомартовцы якобы хотели показать собравшемуся «народу», что они вовсе не антихристы, коими их представляли власти[38]. И хотя Троицкий был, безусловно, прав относительно аргументативной функции жеста, он недооценивал роль религиозных коннотаций в символическом космосе народничества. Жест первомартовцев логичнее контекстуализировать в рамках социалистической концепции «секулярной веры», восходящей еще к так называемому христианскому социализму, нежели усматривать в нем один только пропагандистский аргумент, направленный на то, чтобы успокоить «наивную», «православную» толпу.
Подчеркивая свою «веру» в «истину и справедливость» христианского «вероучения», целуя крест и умирая «мученической» смертью на эшафоте, Желябов выступал в роли истинного последователя Христова[39]. Именно так он и воспринимался частью своих сторонников, а радикальный публицист Алисов представлял Желябова не только в роли ученика Христа, но и фигурой, ему равной[40]. Иными словами, послание, адресованное настоящим и потенциальным сторонникам, было следующим: истинный революционер живет согласно своим убеждениям и жертвует собой (яко Христос) ради будущего всего человечества. Впрочем, следует отметить, что тут не было «правильного» или «неправильного» поведения, так как любой жест казненного мог интерпретироваться впоследствии в пользу революции. Так, к примеру, отказ Осинского поцеловать крест был растолкован Кравчинским как нежелание признать «небесного царя, как и царей земных»[41].
После процесса и насильственной смерти первомартовцев образ «героев» и «мучеников» развивался уцелевшими членами и сторонниками «Народной воли». Так, в феврале 1882 года, по завершении «Процесса двадцати», появилось так называемое «Завещание» Александра Михайлова, в котором, подражая структуре, характерной для многих религиозных текстов, он давал своим «братьям» революционные «заветы».
Последние начинались со слов: «Завещаю вам, братья» — и включали разнообразные пожелания: от сформулированного в духе Осинского пожелания беречь силы «от всякой бесплодной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к цели» до обещания «издать постановления Исполнительного Комитета от приговора А[лександру II] и до нашей смерти включительно»[42].
Само выражение «завещаю вам, братья» библейского происхождения (Лука 22:29) и соответствовало самоинтерпретации народовольцев как самоотверженных борцов за высшую «правду» социализма, приносящих себя в жертву борьбе за угнетенный «народ».
Несколько лет спустя, летом 1889 года, риторическим приемом Михайлова воспользовался Николай Зотов, ставший одной из жертв так называемой «Якутской трагедии». В своем «предсмертном письме» Зотов писал товарищам: «Вот вам мой завет, дорогие братья, на первое время». Далее следовало прагматичное пожелание использовать «колоссальный пример жестокости, самоуправства, бесчеловечности русского деспотизма и его системы»[43] в революционных целях.
Таким образом складывалась традиция, в рамках которой «завет» и «завещание» приобретали особое значение, что впоследствии отразилось как в неонародничестве (можно вспомнить эсеровский журнал «Заветы»), так и в марксизме-ленинизме («Заветы Ильича»). «Завет» отсылал к «революционной традиции» и «революционным принципам», то есть к тому, что напрямую не было связано с религией, но его коннотациями были «Священное писание», «Союз с богом», что придавало революционной тематике особую торжественную окраску.
Было бы, однако, ошибочно считать, что революционеры следовали строго прагматичным соображениям, оперируя религиозными смыслами. Так, к примеру, Александр Михайлов имел, согласно Прибылёвой-Корбе, «особую подкладку в миросозерцании, которая очень приближалась к религии»:
«“Бог — это правда, любовь, справедливость, и я в этом смысле с чистой совестью говорю о Боге, в которого верю”. Он уверял, что все основатели великих религий, Христос даже, именно в этом смысле понимали Бога»[44].
Михайлов, очевидно, трактовал христианство, подобно Ковальскому, Виттенбергу, Желюбову, Ипполиту Мышкину и многим другим, то есть скорее в сен-симонистском ключе, выделяя в нем социальную мысль как единственную partie divine[45]. Такой редукционизм[46] позволял видеть в Иисусе Христе протосоциалиста, фигуру весьма расхожую во всех европейских социализмах. Однако, что именно Михайлов мог подразумевать под понятием «Бог», сказать сложно. Можно предположить, что он мыслил приблизительно в том направлении, в котором позже двигался идеолог «богостроительства» Анатолий Луначарский, имевший особую слабость к религиозной метафорике и желавший отнять «бога» у «попов»[47]. Согласно все тому же свидетельству Прибылёвой-Корбы, Михайлов не знал, как пояснить свои слова о «Боге»:
«У него была какая-то идея (смутная для посторонних, потому что он мало говорил об этом, а может быть, смутная для него самого) — что идеалы социальной революции должны создать людям некоторую новую религию, которая бы так же поглощала все существо человека, как это делали старые»[48].
Стоит отметить, что Михайлов был не единственным революционером, думавшим в таком направлении. Так, например, известный народник Митрофан Муравский, известный под прозвищем «отец Митрофан», ощущал, согласно воспоминаниям Сергея Ковалика, «потребность веры», поэтому он «создал целую религию с богом во главе»[49]. В конце жизни свидетельство о схожих размышлениях оставил в одном из своих блокнотов Егор Лазарев, ветеран социал-революционного движения, делегат Учредительного собрания и член КОМУЧа.
«Я религиозный человек!» — утверждал Лазарев на страницах блокнота, поясняя при этом, что не следует смешивать «Религию с Церковью», а «религиозное чувство с церковной обрядностью»[50]. Церковь Лазарев считал скорее вредным институтом, а «веру в загробную жизнь и в личного Бога» и вовсе не совместимой с наукой. В качестве своего «Бога» Лазарев признавал «общество себе подобных». Если религия и вера в Бога порождаются страхом смерти, а в этом Лазарев был убежден, то социализм как «совершенное общество, воспитывающее наиболее совершенную личность», способен будет сделать человека счастливым, связав «смертную жизнь» личности с «практическим бессмертием человеческого общества»[51].
Вышесказанное еще раз показывает, что монархический и экономический гнет мыслился народниками не просто как препятствие к рациональному устройству человеческого общежития, но и как препятствие для творческой и счастливой жизни «народа». Уходя в революцию, народники посвящали свою жизнь не просто свержению монархии, но «благу и счастью всего человечества»[52]. Народники-«утописты» надеялись не просто перестроить жизнь на чисто рациональных началах, но установить принципиально новый нравственный порядок. Можно предположить, что систематическое употребление лексики с религиозной коннотацией и частые отсылки к религиозным текстам имели не только «стратегическое» значение, но и соответствовали взгляду на человека как существо «целостное», то есть в равной степени рационально-практичное и чувственное, склонное к творческому выражению своего «Я».
Тело как инструмент агитации
Если еще в 1860-е годы революционная деятельность не предполагала таких перформативных практик, как «правильное» поведение на суде и — тем более! — на эшафоте, то после казней конца 1870-х народовольцы-террористы уже осознанно подходили к обоим вопросам.
Инструментальное отношение к собственному телу как потенциально расходному материалу агитации давалось далеко не всем революционерам, о чем свидетельствуют относительно большое число людей, подавших прошение о помиловании или впоследствии вовсе отошедших от революционной деятельности. Для того, чтобы воплотить героико-мартирологический идеал в жизнь, будущим террористам приходилось пройти через сложный трансформационный процесс. Сам этот процесс, как правило, протекал в атмосфере тайных кружков, что тоже способствовало радикализации[53].
Представление о том, как подобный процесс мог развиваться, дают письма Александра Михайлова. В одном из них известный народоволец писал о времени «сложных душевных процессов, более или менее продолжительных», в течение которого будущий террорист либо мирился с мыслью о «близкой смерти», либо отказывался от непосредственного участия в терроре:
«Путь, по которому шел я последние два, три года моей общественной деятельности, требует, чтобы предварительно была окончена эта психическая работа. В связи с ней необходимо решаешь и вопрос о своей жизни, решаешь, конечно, в том смысле, что отказываешься от своего “я” и в настоящем, и будущем. Вместе с тем приучаешь себя к мысли о смерти».
Упоминал Михайлов также и такой психологический феномен, как желание воссоединиться с умершим близким человеком посредством собственной смерти. Хотя в контексте террора и «подполья», отказа от «своего “я”» напрашиваются мысли о патологии, не стоит спешить с подобными выводами[54]. Важнее отметить попытку революционеров романтизировать как саму смерть, так и «влечение» к ней, что указывает как на высокое значение «мученичества» в мышлении террористов, так и на роль литературы в формировании образа жертвующего собой террориста. Михайлов писал:
«Каждый случай смерти близких людей, кроме различных других влияний, имеет еще таинственное свойство манить в мир дорогих теней. Кроме сознательных, идейных влечений, в душе зарождаются влечения психо-симпатические — глубокие и сильные. Они помогают удивительно примириться с мыслью о смерти»[55].
На эту особенность «образа жизни террориста» указывал также Лев Тихомиров. В своей полемической книге «Почему я перестал быть революционером» бывший теоретик «Народной воли» сравнивал террориста-практика с затравленным волком. «Господствующее над всем сознание, — писал Тихомиров, — это сознание того, что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть»[56]. Подобно Михайлову, Тихомиров полагал, что такое положение вещей приводит к некому психологическому притуплению, расценивая его, однако, не как элемент революционного «самопожертвования», а как причину духовной «деградации» террориста.
Вышесказанное дает лучшее представление о том, как лидеры и рядовые террористы «Народной воли» готовили себя к будущей роли «героев» и «мучеников». Часть этих людей придавала перформативной составляющей[57]террора огромное агитационное и этическое значение и до самого конца не выходила из выбранной для себя «роли»[58]. Такие ключевые фигуры «Народной воли», как Тимофей Михайлов или Андрей Желябов, весьма внимательно относились к обстоятельствам собственной смерти, глядя на казнь не в последнюю очередь «с точки зрения впечатления, которое казнь и […] поведение во время казни произведет на поколение грядущих борцов»[59], то есть на потенциальных сторонников революционного террора.
Сама казнь первомартовцев протекала следующим образом. Согласно официальному отчету, у Николая Рысакова при виде одетых в саван Желябова, Перовской, Кибальчича и Михайлова подкосились колени. В самом конце церемонии, облаченный в саван и башлык, Рысаков отчаянно оказывал сопротивление, пытаясь удержаться ногами на скамье. В отличие от Рысакова, с которым товарищи не пожелали проститься, остальные осужденные казались, согласно тому же официальному отчету, «довольно спокойными». Перед тем, как поцеловать крест (к этому моменту осужденные еще не были облачены в саваны), Желябов «что-то шепнул священнику», после чего поцеловал крест, «тряхнул головою и улыбнулся»[60]. Таким образом демонстрировалась одна из центральных тем революционного мифотворчества: террорист-«мученик» воспринимает собственную смерть «спокойно» и «бесстрашно» умирает на эшафоте.
Наиболее убедительным в этом отношении оказалось поведение Тимофея Михайлова. Во время исполнения террористического акта у Михайлова сдали нервы, и он преждевременно покинул свою позицию. Во время казни он, согласно официальному отчету, выглядел смертельно бледным. Согласно независимым друг от друга свидетельствам, не вошедшим в отчет, Михайлова вешали как минимум трижды. В первый раз веревка, выбранная для казни, не выдержала веса осужденного и порвалась. Собравшаяся толпа отреагировала негодованием. Михайлов же, либо под воздействием аффекта, либо по каким-то другим причинам, эффектно использовал сложившуюся ситуацию для революционной агитации: пережив первое падение, он сам — без помощи палача и его помощников — взобрался обратно на скамейку[61]. Желая предотвратить влияние подобных инцидентов на зрителей, правительство отказалось в дальнейшем от проведения публичных казней[62].
Оставшиеся же на воле народовольцы превозносили своих мертвых товарищей как «героев», принявших «мученический венец»[63]. Публицистические тексты революционеров и их личные «предсмертные» письма использовали схожие тропы, религиозные аллюзии и аргументативные шаблоны, создавая самыми различными средствами единое повествование: ради освобождения человечества революционер бесстрашно разит врага и спокойно идет на смерть. Это основное положение еще раз подчеркивалось в большей или меньшей степени театрализованным поведением на суде и во время казни.
Письма к родным
Народовольцы оставили после себя целый ряд личных писем, в которых, прощаясь с товарищами и родными, соединяли интимность и исповедальность с народнической пропагандой. Первым народовольцем, вписавшим себя в традицию «предсмертного письма», был Александр Квятковский, арестованный еще в ноябре 1879 года. Незадолго до казни Квятковский написал ряд писем — матери, сестре и жене, — отправленных им официальным путем.
В письме к матери возникает один из основных мотивов революционного «предсмертного письма» — уверение адресата в принципиальной стойкости осужденного, в его готовности принять любое наказание вплоть до смертной казни:
«Не думайте, что я страшусь решения своей судьбы, что я с трепетом ожидаю того, что должно со мной случиться через несколько дней, что я беспокоюсь, что я мучусь. Нет, что бы то меня ни ожидало и даже самую смерть я приму спокойно, хладнокровно (не потому что жизнь мне надоела, нет, жить еще хочется, даже, ах, как хочется) — в том меня поддерживает одно только сознание, что я действовал честно, что я поступал по своим убеждениям»[64].
В отличие от письма Осинского, Виттенберга и приговоренных по «Процессу двадцати восьми», в письме Квятковского отсутствовали громкие лозунги вроде «торжества социализма». Подобное самоограничение отвечало не только цензурным, но и «личным» соображениям. В письмах к родным народники-террористы, как правило, отказывались от риторических приемов, присущих как чисто пропагандистским текстам, так и предсмертным письмам, обращенным к товарищам по борьбе. Более того, осужденные нередко выражали сожаления по поводу страданий, причиненных своим близким, а иногда и сомнения в правильности выбранного пути. Так в письме к матери Квятковский допускал, что «мог ошибаться» и «стоять на ложной дороге»[65]. Подобное утверждение было попросту немыслимым в письме к товарищам.
Наиболее артикулированным был, как правило, конфликт между ценностью «обычной» семейной жизни и жизнью ради «освобождения» человечества, выбранной революционером-практиком. Если в письме к матери Квятковский писал, что ему жаль быть «невольной причиной»[66] ее страданий, то в письме к жене он уже прямо писал, что «виноват во много[м]» перед супругой. «Единственное, что может смягчить мою вину перед тобой, — утверждал Квятковский, — это те обстоятельства, в которых сложилась моя жизнь». Жене он предлагал сконцентрироваться на традиционной материнской роли воспитательницы ребенка, что, по мнению отца, должно было «мирить»[67]супругу с судьбой вдовы и матери-одиночки.
Сыну же Квятковский не советовал прямо следовать по стопам отца, но все же желал ему ценить и любить то, что ценил и любил отец. Подобные попытки говорить о своих социалистических убеждениях намеками власти посчитали достаточным поводом для того, чтобы задержать все письма Квятковского. Вячеслав Плеве, занимавший тогда пост прокурора Петербургской судебной палаты, отправил письма директору незадолго до этого образованного Департамента полиции, барону Велио, который поставил краткую резолюцию: «Передать нельзя»[68].
Письмам других участников «Процесса шестнадцати» повезло чуть больше. Их удалось тайно вынести за пределы тюремных стен. Этот материал оказался впоследствии на конспиративной квартире Анны Корбы и Мартына Ланганса. Народовольцы раздумывали над их публикацией, но в итоге отказались от этой идеи, посчитав письма излишне интимными или — как в случае с предсмертным письмом Андрея Преснякова, убившего случайного человека и крайне угнетенного этим фактом, — и вовсе не соответствующими этой цели. Вера Фигнер переписала их, по собственному утверждению, в отдельную тетрадь и впоследствии опубликовала в «Каторге и ссылке»[69].
Иначе уцелевшие члены Исполнительного комитета поступили с письмом Софьи Перовской. Письмо, адресованное матери, было вынесено тайно из тюрьмы адвокатом Перовской — Евгением Кедриным. Уже в 1882 году Лев Тихомиров издал письмо отдельной брошюрой, после чего этот текст многократно появлялся в печати.
В письме Перовской, как и в других подобных посланиях, адресованных родным, отсутствуют яркие риторические фигуры, характерные для «предсмертных писем», адресованных товарищам по борьбе. Письмо начиналось с подчеркнуто интимных интонаций («Дорогая моя, неоцененная мамуля»), выражало озабоченность дочери страданиями матери («Меня все давит и мучает мысль, что с тобой?») и содержало в том числе и бытовую просьбу: купить «воротничок и рукавички».
Письмо Перовской, как и некоторые другие письма казненных народовольцев, нельзя считать «предсмертным» в строгом смысле этого слова. Оно было составлено до начала суда, когда Перовская, в отличие от своих товарищей-мужчин, еще не могла быть уверена в вынесении смертного приговора. Тем не менее революционерка, прошедшая через «школу» 1870-х годов, отдавала себе полный отчет в том, что письмо может оказаться в распоряжении «партии» и послужить в дальнейшем средством агитации. После общих слов соболезнования и увещеваний — в дальнейших публикациях это место было выделено отдельным абзацем — в письме появляется стандартный мотив «предсмертных писем»: заверение в том, что революционер жил согласно своим убеждениям и принял свою участь без ропота. Соединяясь с интимным обращением к матери и бытовыми деталями, мотив революционной стойкости производил впечатление тесной связи между медиальной самопрезентацией и «внутренним миром» террориста и воздействовал эмоционально на сочувствующих читателей, привыкших к тому же видеть в женщине «слабое существо»[70]:
«Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии; поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне»[71].
Неудивительно, что этот текст на протяжении почти целого столетия вызывал у ангажированных читателей крайне противоположные чувства. Если в составленной князем Николаем Голицыным и генерал-лейтенантом Николаем Шебеко «Хронике социалистического движения в России» (1890) сам факт появления подобного письма характеризовался «сплошным лицемерием»[72], то революционеры утверждали, что в письме отразилась вся «Перовская со своей чистой душой»[73]. С революционерами соглашались советские исследователи народничества, часто не делавшие больших различий между языком источника и собственным метаязыком. Так, к примеру, утверждалось, что в документе отразились «благородство, несокрушимая сила и вместе с тем детская нежность»[74] характера Перовской.
Такая полярность оценок была обусловлена не только идеологическими расхождениями комментаторов, но и особенностью самого революционного мышления, соединявшего идеал «аутентичности» с сознательной самомистификацией, что до определенной степени сглаживало грань между искренностью и пропагандой.
Послесловие
Большинство народников были крайне враждебно настроены «как против церковных, так и против монархических доктрин»[75]. Отвергая многие религиозные традиции, они придерживались скорее атеистических позиций. Атеизм, однако, не означал отказа от ряда важных для христианства представлений. Более того, атеизм часто становился важной предпосылкой индивидуального участия в процессе социальной и политической трансформации страны, процессе, мыслимом по аналогии с христианской историей спасения. Революционную концепцию «мученичества» стоит рассматривать в рамках именно этих представлений о будущей революции, «когда человечество одной ногой шагнет в светлое царство социализма»[76].
Революционеры, как правило, отдавали себе отчет в том, что можно писать товарищам по борьбе, а что и каким образом — близким родственникам. Последние переживали за своих сыновей и дочерей и вряд ли смогли бы согласиться с политическим прочтением Евангелия, характерным для народничества 1870-х годов. В письмах к родственникам революционеры, как правило, отказывались от наиболее расхожих топосов вроде «торжества социализма» или «мученичества за идею». Напротив, если в опубликованных до 1917 года письмах к товарищам доминировал бодрый, нередко наставительный тон, то в письмах к родным осужденные могли писать о чувстве вины за страдания отцов и матерей. Если в таких письмах присутствовали заверения в том, что жизнь была прожита не зря, что революционер не сожалеет о своей близкой смерти, не боится длительного тюремного заключения, то подобный документ мог впоследствии быть включен в канон «предсмертных писем» и трактоваться как наиболее убедительное выражение личности революционера. Таким образом размывались границы между концепциями «личного» и «общественного», между интимной исповедью и пропагандистским посланием[77] и создавался общий героический нарратив, помогавший обходить сложную моральную дилемму революционного террора[78], укреплявший революционную идентичность и связанное с ним чувство принадлежности к социальному авангарду.
Народничество оказало огромное и непосредственное влияние на дальнейшее развитие революционного движения в целом и революционного терроризма в частности. Особенно во время революции 1905 года наблюдался огромный спрос на нарративы мученичества и геройства. Журнал «Былое» в короткий промежуток существования свободы печати опубликовал большое количество документов, относящихся к 1870—1880—х годам и посвященных героизации народничества и неонародничества. В 1906-м он вышел небывалым для того времени тиражом в 30 000 экземпляров[79].
Исходя из представления о потенциально безграничных возможностях человека народники стремились преодолеть в себе «ветхого человека»[80], став «новыми людьми», способными устоять в борьбе с государственной машиной и приблизить пришествие «царства социализма». Притязания на «переустройство» человеческого «Я» включали в себя подчинение личных желаний и целей, не имеющих общественного значения, потребностям политической борьбы. Ожидалось, что «настоящий революционер» ориентируется на общее благо, ради которого терпит невзгоды и подвергает собственную жизнь опасности. Использование таких общих мест, как «святое дело освобождения народа», «святыня знамени», «священный долг», «царство свободы», носило не только риторический характер. Они помогали купировать недостатки концепции революционной идентичности, акцентуируя сверхценный характер жизни ради «общего дела» и отвлекая внимание от моральных дилемм, создаваемых террором. Религиозная семантика придавала значимость революционной жизни там, где волна насилия, утилитарная логика и процесс модернизации создавали чувство неопределенности и неуверенности в собственных силах и возможностях. Она выполняла эту роль не столько за счет актуальности иудео-христианских представлений о святости, сколько благодаря реализации идеи одновременно творческой и рациональной «полноты»: деконтекстуализируя религиозно-коннотированные слова и словосочетания и реактуализируя их в новом, политическом, контексте, революционный дискурс создавал чувство новизны социалистического проекта.
[1] Сафронова Ю. Русское общество в зеркале революционного террора. 1879—1881 годы. М., 2014; Dietze C. Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858—1866. Hamburg, 2016; Schulze Wessel M. Terrorismusstudien. Bemerkungen zur Entwicklung eines Forschungsfelds // Geschichte und Gesellschaft. 2009. № 3. S. 357—367.
[2] Verhoeven C. The Odd Man Karakozov. Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism. Ithaca, 2009. Patyk L. Dressed to Kill and Die. Russian Revolutionary Terrorism, Gender, and Dress // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2010. № 1. S. 192—207.
[3] Подробно об идейной предыстории российского терроризма и его теоретическом обосновании см.: Будницкий О. Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 2000. Фельдман Д., Одесский М. Поэтика власти. М., 2012.
[4] Могильнер М. Мифология «подпольного человека». Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. Могильнер указывает на ряд типичных черт воображаемого образа террориста конца 1870-х — начала 1880-х годов: это в первую очередь молодой человек, готовый пожертвовать собственной жизнью ради блага «народа». Террорист «отдает» не только свою жизнь, но и возможность создать семью и продолжить свой род, в особенности, если террористом являлась женщина. Таким образом, жизнь молодого человека обретает бóльшую ценность, чем жизнь его «пожилой» жертвы. Благодаря своей «жертве» террорист принимает «мученический венец» и становится неподвластным «земному» суду (Там же. С. 53—54).
[5] Taylor C. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge, 2006. P. 368.
[6] Idem. The Malaise of Modernity. Toronto, 1991. P. 27. О фундаментальном значении чувств и воображения в русском радикализме, а также о попытках радикалов поступать соответственно своим «истинным» чувствами см.: Frede V. Radicals and Feelings — The 1860s // Steinberg M., Sobol V. Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe. DeKalb, 2011. P. 62—81. О влиянии «экспрессивизма» на Герцена см.: Kelly A. The Discovery of Chance. The Life and Thought of Alexander Herzen. Cambridge, 2016.
[7] Жебунов С. Отрывки из воспоминаний // Былое. 1907. № 5. C. 256. «Потребность эта нас душила, — писал Жебунов о своем тюремном опыте, — и если бы стены могли слушать, мы бы и стенам проповедовали истину и справедливость» (Там же).
[8] Виташевский Н. Первое вооруженное сопротивление — первый военный суд // Былое. 1906. № 2. С. 222.
[9] Stritzky M.-B. Einleitung // Stritzky M.-B., Fürst A. (Hrsg.). Origenes. Aufforderung zum Martyrium [= Origenes. Werke mit deutscher Übersetzung 22]. Berlin; New York, 2010. S. 15.
[10] Лавров П. Исторические письма 1868—1869 // Он же. Философия и социология. М., 1965. Т. 2. C. 121.
[11] Там же.
[12] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6243. Оп. 1. Д. 1. Л. 152.
[13] Нечаев и нечаевцы / Cост. Б. Козьмин. М.; Л., 1931. C. 167.
[14] О влиянии поповичей на революционное движение см.: Манчестер Л. Поповичи в миру. Духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М., 2015.
[15] Цит. по: Седов М. Героический период революционного народничества. М., 1966. С. 96. Сам социализм при этом, конечно, превосходил христианство. Утверждая превосходство социализма, народники, однако, нередко использовали концепты, воспринятые ими из самого христианства: «Но наша борьба выше, лучше, святее [sic!], — писал Ковальский. — Мы боремся прямо, непосредственно за истину, мы сознательно действуем без всякой опоры на сверхъестественное» (Там же).
[16] Это письмо приведено в автобиографии мужа Батюшковой — Цвиленева. См.: Цвиленев Николай: Автобиография // Энциклопедический словарь Русского биографического института Гранат. Приложение. М., 1927. Т. 40. C. 514—540, 535.
[17] Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford, 1988. P. 8—9.
[18] ГАРФ. Ф. 6225. Оп. 1. Д. 56. Л. 94. Упоминание о «христианском обычае» было впоследствии удалено из печатных, предназначенных для агитации, вариантов письма. Возможно, здесь сыграло роль опасение, что положительное упоминание «христианского обычая» наряду с такими фразеологическими выражениями, как «дай вам Боже» и «дай Бог», могло (необоснованно) бросить тень на атеистические убеждения Осинского.
[19] Там же. С. 102.
[20] Там же. С. 103.
[21] В данном случае речь идет о споре между «политиками» и «деревенщиками». Последние не признавали «городского» террора и считали достижение политических свобод второстепенной целью.
[22] Революционная журналистика семидесятых годов / Cост. В. Базилевский [= В. Богучарский]. Париж, 1905. С. 479—480.
[23] О роли «предсмертного письма» Осинского в процессе радикализации революционного движения см. также: Будницкий О. Указ. соч. С. 53.
[24] Революционная журналистика семидесятых годов. С. 482.
[25] ГАРФ. Ф. 6225. Оп. 1. Д. 72. Взглянуть на само дело мне не удалось. Согласно позиции сотрудников архива, документы используются в качестве экспонатов, но на руки исследователям не выдаются. Как следует из тайной записки, находящейся в том же фонде, волосы были срезаны «на память» незадолго до самой казни. Автор записки придавал им исключительное значение: «На бумаге каждому из пучков [волос. — В.Ф.] — стоит одна буква (начальная фамилия того, кого волоски). — Прошу эти волоски в целости с бумажками (которые можете переменить, сделав надписи букв чернилами) вложить внутрь моего креста. Помни, 674225619 [зашифрованное имя получателя записки. — В.Ф.], береги этот крест — когда бы ни было, но я его опять надеюсь носить» (ГАРФ. Ф. 6225. Оп. 1. Д. 56. Л. 34). Происхождения «куска дерева» мне пока выяснить не удалось.
[26] Borcke A. Gewalt und Terror im revolutionären Narodničestvo: Die Partei Narodnaja volja (1879—1883). Köln, 1979. S. 13; Волк C. Народная воля. 1879—1882. М.; Л., 1966. С. 83—94.
[27] Архив «Земли и Воли» и «Народной Воли» / Сост. М. Каплан, П. Щеголев. М., 1932. С. 107.
[28] Об Осинском, Лизогубе и Виттенберге как основоположниках традиции впервые написал: Троицкий Н. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг. М., 1878. С. 236.
[29] Деятели революционного движения в России [= Fotomechanicher Neudruck der Originalausgabe von 1929]. Лейпциг, 1974. Т. 2. Ч. 1. C. 200—201; Морейнис М. Соломон Яковлевич Виттенберг и процесс 28-ми // Каторга и ссылка. 1929. № 7. С. 47—67; Троицкий Н. Указ. соч. С. 193.
[30] [Богучарский В.] Литература социально-революционной партии «Народной Воли». Париж, 1905. С. 11—12.
[31] О религиозных истоках подобного различия см.: Taylor С. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989. P. 13—24, 211—284.
[32] Подробнее об этом центральном аспекте христианской этики см.: Graf F. Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur. München, 2004. S. 112.
[33] О зависимости различных философий истории от теологических интерпретаций истории см.: Löwith K. Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophy of History. Chicago, 1949. О значении истории спасения для коммунистической мысли см.: Halfin I. From Darkness to Light. Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000.
[34] Подробнее об этой теме см. в: Morrissey S. The «Apparel of Innocence»: Toward a Moral Economy of Terrorism in Late Imperial Russia // The Journal of Modern History. 2012. № 3. P. 607—642.
[35] Bergman J. The Image of Jesus in the Russian Revolutionary Movement // International Review of Social History. 1990. № 2. P. 220—248.
[36] Поясняя свою интерпретацию Матфея 16:28, Виттенберг писал: «Я в этом убежден, как убежден в том, что Земля движется. И когда я взойду на эшафот и веревка коснется моей шеи, то последняя моя мысль будет: “И все-таки она движется, и никому в мире не остановить ее движения”» ([Богучарский В.] Указ соч. С. 12). Стоит также отметить, что Виттенберг приводил цитаты из Евангелия по памяти, о чем свидетельствует ряд мелких неточностей. Иными словами, он обладал схожим культурным багажом, что и его товарищи русского происхождения. Революционные кружки привлекали молодежь обещанием эмансипации от мира имперской России. Так, из автобиографий женщин-народниц следует, что одним из мотивов для начала политической деятельности было желание большего равноправия. Евреям, которых привлекала модерная жизненная модель радикалов, подпольные кружки давали возможность «эмансипироваться» от религиозных традиций и верований своих семей, тем более, что уровень антисемитизма в радикальных кружках был, как правило, ниже. Как и всякий активист, проведший достаточное количество времени в революционной среде, народники-евреи перенимали этико-политические идеалы революции и выражали их посредством специфического языка. В случае с известным народником Осипом Аптекманом переход на «сторону» революции даже соединился с крещением в православную веру. Большинство революционеров придерживались, однако, скорее атеистических позиций.
[37] Дело о совершенном 1-го марта 1881 года злодеянии, жертвою коего пал в Бозе почивший Государь Император Александр Николаевич. Киев, 1881. С. 4—5.
[38] Троицкий Н. Указ. соч. С. 235.
[39] Схожим образом как «символ страдания» интерпретировал крест народоволец Константина Неустроев. См.: Неустроев К.Г. Материалы для биографии // Былое. 1907. № 6. С. 294—296.
[40] Сафронова Ю. Указ. соч. С. 191.
[41] Степняк С. Подпольная Россия. СПб., 1906. С. 61.
[42] Завещания Александра Дмитриевича Михайлова // Былое. 1906. № 2. С. 175.
[43] Письма осужденных якутян // Былое. 1906. № 9. С. 154.
[44] Александр Дмитриевич Михайлов. (Материалы для биографии) // Былое. 1906. № 2. С. 166, сн. 1.
[45] Saint-Simon H. Le Nouveau Christianisme. Paris, 1825. P. 3.
[46] Подробно о редукционистском прочтении христианских текстов в народовольчестве см.: Кан Г. «Народная Воля»: Идеология и лидеры. М., 1997. С. 36.
[47] Gleixner J. «Menschheitsreligionen». T.G. Masaryk, A.V. Lunačarskij und die religiöse Herausforderung revolutionärer Staaten. Göttingen, 2017. S. 127.
[48] Александр Дмитриевич Михайлов… C. 166, сн. 1.
[49] Ковалик С. Автобиография // Энциклопедический словарь Русского биографического института Гранат… C. 180.
[50] ГАРФ. Ф. 5824. Оп. 2. Д. 64. Л. 14.
[51] Там же. Л. 59, 55, 53. «В таком [неразб.] высоко религиозном смысле я и смотрю на Социализм», подытоживал Лазарев свои размышления (Там же. Л. 67). При составлении нумерации листов блокнота были допущены ошибки, отсюда — непоследовательность цифр. Источник впервые вводится в научный оборот.
[52] Бух Н. Автобиография // Там же. С. 45.
[53] Zelnik R. To the Unoccustomed Eye. Religion and Irreligion in the Experience of the St. Petersburg Workers in the 1870s // Russian History. 1989. № 1. P. 297—326.
[54] Тезис о тесной связи между террором и психической патологией был впервые сформулирован российской дореволюционной психиатрией и введен в современный научный дискурс Анной Гейфман — автором важной работы по истории российского революционного терроризма: Geifman A. Thou Shalt Kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894—1917. Princeton, 1995. Тезис впоследствии многократно критиковался в исторической литературе.
[55] Все цитаты приводятся по: Кладбище писем // Былое. 1918. № 4—5. С. 98. Что касается смерти товарищей, то сами народовольцы насчитывали после 1 марта в общей сложности 27 «борцов» и «мучеников», начиная с Ковальского, Соловьева и Виттенберга и заканчивая казненными первомартовцами, включая Николая Рысакова.
[56] Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером. М., 1895. С. 46.
[57] Смерть на эшафоте можно считать в этом контексте заключительной частью революционного терроризма как перформативного акта. О терроре как о «театрализованном» действии с эксплицитным посланием см., к примеру: Graaf B. Terrorismus als performativer Akt. Die Bundesrepublik, Italien und die Niederlade im Vergleich // Hürter J. (Hrsg.). Terrorismusbekämpfung in Westeuropa. Demokratie und Sicherheit in den 1970er und 1980er Jahren. Berlin, 2015. S. 93—116.
[58] Вместе с тем нельзя забывать, что идеализированный образ не всегда соответствовал действительности и что далеко не все народовольцы были готовы участвовать в предприятиях, грозивших почти неминуемой гибелью. В Исполнительный комитет никогда не входило больше, чем 20—22 человека одновременно, активных народовольцев в центре и в провинции насчитывалось не более 500, из которых лишь небольшая часть была вовлечена в террор. На суде Желябов утверждал, что 47 человек выразили свое согласие непосредственно учувствовать в убийстве царя. Если бы Исполнительный комитет действительно располагал таким большим количеством смертников, писал американский исследователь Авраам Ярмолинский, то вряд ли пришлось бы использовать 1 марта 1881 года в том числе и несовершеннолетних метальщиков (Yarmolinsky A. Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism. New York, 1959. P. 274).
[59] Кладбище писем. С. 87—88. Автор этого замечания Владимир Бурцев и сам был радикальным сторонником террора.
[60] Суд и казнь первомартовцев // Былое. 1918. № 4—5. С. 322.
[61] Шерих Д. Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге. М., 2013. С. 145—155.
[62] Троицкий Н. Царизм под судом прогрессивной общественности 1866—1895. М., 1979. С. 138.
[63] «3-го апреля между 9 и 10 утра на Семеновском плацу в Петербурге приняли мученический венец социалисты: крестьянин Андрей Желябов, дворянка Софья Перовская, сын священника Николай Кибальчич, крестьянин Тимофей Михайлов и мещанин Николай Рысаков». Текст в точности следовал образцу, составленному после смерти первых народовольцев. Тогда центральный орган «партии» писал: «4-го ноября, в 8 часов 10 минут утра, приняли мученический венец двое наших дорогих товарищей, Александр Александрович Квятковский и Андрей Корнеевич Пресняков» ([Богучарский В.] Указ соч. С. 285). О «наших мучениках», своей кровью купивших социальные перемены (в число которых включались и еврейские погромы), писалось также в «Листке “Народной Воли”» (Там же. С. 387). Об антисемитизме небольшой части народовольцев см.: Offord D. The Russian Revolutionary Movement in the 1880s. Cambridge, 1986. P. 44—46.
[64] Баум Я. Предсмертные письма Александра Квятковского // Каторга и ссылка. 1927. № 2. C. 208.
[65] Там же.
[66] Там же. С. 209.
[67] Там же.
[68] Там же. С. 207.
[69] Фигнер В. Письма участников процесса 16-ти // Каторга и ссылка. 1930. № 2. С. 97—104.
[70] Достаточно вспомнить кампанию за отмену смертного приговора Геси Гельфман и международную реакцию на казнь Перовской, чтобы понять, почему в Российской империи было произведено так мало казней женщин-террористок. Подобный взгляд на женщину как существо более слабое был присущ и многим революционерам-мужчинам. См., к примеру: The Hoover Institution Archives. Nicolaevsky Collection. Box 58. Folder 2. P. 17.
[71] К биографиям А.И. Желябова и С.Л. Перовской // Былое. 1906. № 8. С. 128.
[72] [Голицын Н., Шебеко Н.] Хроника социалистического движения в России. 1878—1888. М., 1906. С. 169.
[73] Степняк С. Указ. соч. С. 119.
[74] Троицкий Н. «Народная Воля» перед царским судом. Саратов, 1983. С. 162.
[75] Морозов Н. Автобиография // Энциклопедический словарь Русского биографического института Гранат… C. 306. Подчеркивая «научный» характер своего мировоззрения, Морозов пишет о враждебном отношении классической образовательной системы к естественным наукам, в первую очередь к дарвинизму. Противопоставляя «дарвинизму» и «нигилизму» православие и самодержавность, учителя способствовали, по убеждения Морозова, укреплению в нем оппозиционных настроений.
[76] Так вспоминала об умирающем Петре Заичневском, авторе прокламации «Молодая Россия», одна из его соратниц. См. в: Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник / Сост. А. Шикман. М., 1997. Т. 2. С. 311.
[77] Так, к примеру, Андрей Пресняков, убивший при задержании постороннего человека, сознательно отрицал намеренное сопротивление — хотя последнее со времен Ковальского и считалось революционной добродетелью, — потому что был убежден, что «сопротивление должно было произвести на общество дурное впечатление в силу убийства». Вместе с тем Пресняков утверждал, что во время предварительного ареста тяжело переживал убийство, отзываясь при этом о своей жертве как о дураке, подставившем «свое брюхо вместо шпионского». Себя самого Пресняков не рисовал в образе человека, спокойно и осознанно идущего на смерть, отступая таким образом от центрального мотива «предсмертных писем»: «Не знаю, как я пойду на виселицу: желания особого жить нет, да и умирать, с другой стороны, не хочется. Помилования просить не буду» (Письма участников процесса 16-ти. С. 101). Письмо Преснякова, как уже было сказано, не было опубликовано товарищами и появилось в печати только после революции.
[78] Стоит отметить, что большинство террористов относились к террору двояко. И Кравчинский (в памфлете «Смерть за смерть»), и Осинский (на суде) утверждали, что убийство — необходимая, но сама по себе ужасная вещь. В схожем ключе выражались многие народовольцы, от Гриневицкого, непосредственного убийцы Александра II, до Николая Кибальчича.
[79] Лурье Ф. Хранители прошлого. Журнал «Былое». CПб., 1990.
[80] Так звучала одна из распространенных метафор, отсылавшая к библейским текстам, сохранившая свою актуальность и в начале XX века: «В таком общении [со старыми ссыльными. — В.Ф.] мы перерождались, здесь окончательно сбрасывали с себя ветхого человека, здесь росло и крепло чувство — на первых порах почти религиозное — уважения к предшественникам, к великой роли “подполья” и горячая вера в необходимость идти по этому пути» (Аргунов А. Из прошлого партии социалистов-революционеров // Былое. 1907. № 10. С. 96).
Источник: intelros.ru
