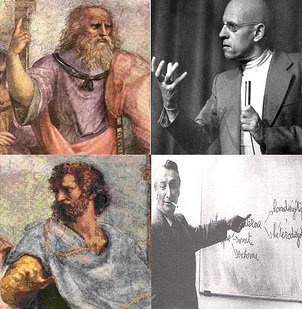
В результате развития философии науки в ХХ в большинство критериев демаркации между научным и вненаучным знанием, которыми руководствовались представители классической, «лапласовской» науки, в нашу эпоху постнеклассической науки подверглись пересмотру: была показана неизбежность недоказуемых предпосылок в науке, выявлена теоретическая нагруженность эмпирических фактов, обнаружена недостижимость абсолютной достоверности научного знания и т.д. Пересмотр классических критериев научности позволил поставить вопрос: если идеал науки, в соответствии с которым ученый познает мир путем строго рационального осмысления эмпирических данных, не допуская в этот процесс никаких недоказуемых метафизических суждений (как мечтал Огюст Конт, а позднее неопозитивисты), оказался недостижимым, и некие априорные постулаты все равно неустранимы из научного познания (в результате чего гносеологическая непорочность науки все равно оказывается утраченной, вернее, никогда и не существовала), — стоит ли так упорно выводить за рамки науки любое суждение, допускающее вмешательство Бога, или, шире, любое объективно-идеалистическое мировоззрение? Очевидно, что для этого нет оснований. Материалисты, ныне именующие себя «светскими учеными», представителями объективной науки сводят проблему критерия научности к логическому кругу: «научно только исследование, не допускающее вмешательство Бога, потому что исследование, допускающее вмешательство Бога, не научно».
Один метод преодоления жесткого противопоставления научного и религиозного знания, вызревшего в эпоху антиклерикальной и атеистической классической науки заключается в подчеркивании слабостей и несовершенств критериев демаркации научного знания от всякого другого. При этом акцент делается на том, что ничто в мире, в том числе сама наука не соответствует критериям «классической научности» и, следовательно, антитеза между научным и религиозным знанием снимается.[1]
Однако, при всей необходимости развенчания никогда не достигавшегося в реальной науке идеала «классической научности» нельзя не видеть, что оборотной стороной такого развенчания является опасность релятивизации всякого знания. Поэтому в настоящей статье я сконцентрировал внимание на другом пути преодоления антагонизма между религиозным и научным знанием (которые, тем не менее, остаются разными видами знания о мире) — не через расшатывание той ограды, того набора особенностей, которые классическая наука считала своими исключительными свойствами, отграничивающими ее от иных форм знания, а посредством обращения к тому, что объединяет науку и теологию. Это уверенность в том, что знание, которым они обладают, соответствует объективной реальности, является знанием о реально существующих объектах. Что же можно увидеть общего и различного в религиозном и научном знании?
При рассмотрении проблемы отношений науки и религии в эпицентре внимания чаще всего оказывается проблема соотношения веры и знания. Одним из итогов философско-теологических изысканий стало признание той истины, что вера и знание не являются антонимами (по выражению Д.И. Дубровского, вере противоположно неверие, а знанию — незнание). Научное знание на самом деле в своей значительной части является, используя термин П. Вайнгартнера[2], «научной верой». Под научной верой мы, вслед за П. Вайнгартнером, понимаем далее значительную часть того, что обычно именуется научным знанием, а именно принимаемые без достаточных, исчерпывающих оснований научные теории и гипотезы, а также некоторые методологические нормы науки (например: «при выдвижении гипотез следует учитывать всю доступную информацию»).
Представляется целесообразным посмотреть на истины религиозной веры, делая смысловой акцент не на слове «вера», а на слове «истины», т.е. высказывания о сущем, несущие некую положительную информацию, содержащие в себе знание — религиозное знание.
Как правило, исследователи говорят о сопоставлении «науки» и «религии». Уточним, что, говоря о религии, вероучении, необходимо различать 1) вероучение или религию как целостный феномен, включающий в себя как дескриптивные, так и прескриптивные положения (предписывающие совершение определенных ритуалов Богопочитания, соблюдение религиозно-этических норм и т.п.), 2) обыденное сознание массы верующих со своими подчас весьма упрощенными теологическими представлениями, 3) неортодоксальные построения отдельных теологов, иногда плохо совместимые с каноническим учением Церкви (в современном православии это священники А. Мень, Г. Кочетков, о смелых теологических построениях модернистских богословов-протестантов писал, например, В.К. Шохин[3]) и, 4) являющееся частью вышеназванного п.1 ортодоксальное богословское учение об устройстве мироздания, о наиболее общих законах развития мира и человечества, содержащее высказывания дескриптивного типа. В дальнейшем мы рассматриваем именно последнюю составляющую религии.
Религиозное знание включает в себя сочетание: 1) религиозных догматов, 2) информацию о фактах, принимаемых верующими за реальные события (например, сотворение человека Богом, рождение, смерть и воскресение Христа) и 3) рациональных логических операций, направленных на осмысление фактов и догматов. В составе религиозного знания имеются как получившие религиозное осмысление факты и теории естествознания (например, красное смещение галактик и теория Большого взрыва как свидетельство в пользу сотворения мира), так и утверждения о мире, считаемые богооткровенными истинами (учение о бессмертии души и о загробном воздаянии).
В религиозном знании наличествует система дескриптивных высказываний о существующем (естественном-тварном или сверхъестественном), которые по природе своей могут быть только истинными или ложными (здесь имеет место жесткая дизъюнкция, исключающая выведение этих высказываний за пределы «имеющих смысл», исключающая возможность отнести их к «не истинным и не ложным», к «бессмысленным» в позитивистском духе).
Вряд ли возможно провести четкую грань между религиозным знанием, с необходимостью включающим в себя веру, то есть элемент неполной достоверности и «просто знанием» о феноменах и фактах, имеющих отношение к религии. (Например, факт рождения Магомета есть историческая истина, относящаяся не только к религиозному, но и к общечеловеческому знанию. В то же время некоторые события жизни Христа, несомненно достоверные для христиан, с точки зрения исторической науки не подтверждены с несомненной достоверностью. Христианин убежден, что эти события — реальные исторические факты, о которых он знает, нехристианин полагает, что христиане верят в реальность событий, которые вовсе не имели места или происходили по-иному (воскрешение Лазаря, превращение воды в вино и т.п.). Иногда наука меняет и даже неоднократно свой взгляд на подлинность исторических событий, несомненно имевших реальное место с точки зрения богословов).
Как уже отмечалось ранее, гносеологическом плане нельзя говорить о противоположности веры и знания. Веру, в том числе религиозную, следует трактовать как «вероятностное знание», утверждаемое сознанием субъекта решение принимать нечто потенциально допустимое за истинное, за соответствующее объективной реальности. В этом смысле вера была определена еще у апостола Павла: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). С эпистемологической точки зрения вера подобна «мнению» в античной философии, догадке о чем-то неведомом. Обратим внимание на то, что объективная истинность высказывания и процедура, метод, посредством которого мы пришли к принятию этого высказывания за истинное — это две разные вещи. Когда, например, мы называем атомистическую гипотезу античности «догадкой», то «догадка» — это характеристика не содержания высказывания, а процедуры его получения (предположение на основе наблюдений за макрообъектами, аналогии, интуиции и т.д.). С точки зрения содержания гипотеза Демокрита содержит знание о реальности.
Объектом веры может быть нечто принципиально недоказуемое рациональным образом, в том числе сверхъестественное, трансцендентное или же пока, на данный момент недостоверное, но могущее быть удостоверенным в будущем. В последнем случае, говоря словами Локка, «когда вера доведена до достоверности, она разрушается. Тогда это уже более не вера, а знание».[4] Следует, правда, снова обратить внимание на то, что не только в религиозной жизни, но и в науке случаев достижения несомненной достоверности значительно меньше, чем казалось в эпоху классической науки.
Наиболее важно то, что даже в отношении веры в неверифицируемое суждение, принципиально недоступное превращению в достоверное знание, следует признать, что она может содержать представления, вполне соответствующие действительности, и в этом смысле быть знанием. П. Вайнгартнер, вслед за Локком, видит относительное различие между верой (научной или религиозной) и знанием в том, что «основания для веры никогда не бывают совершенно достаточными, в противном случае нужно говорить о знании, а не о вере, Вместе с тем имеются, как представляется, серьезные основания, которые свойственны обоим видам веры и которые являются хотя и недостаточными, но необходимыми условиями для них» (курсив мой — М.Ш.).[5] Обратим внимание на очень важную мысль П. Вайнгартнера о том, что содержание научной или религиозной веры не есть беспочвенная фантазия, оно основывается на некоторых доводах и аргументах.
И для научной, и для религиозной веры грань, отделяющая их от знания, вроде бы, четко определена — наличие или отсутствие «совершенно достаточных оснований» для принятия утверждения за несомненно истинное. Однако, если учесть, что кроме очень простых ситуаций «непосредственной и ясной очевидности», понятие «совершенно достаточных» для знания оснований весьма относительно, расплывчато и переменчиво в истории, то обнаруживается, что грань между верой и знанием подвижна, неопределенна. Кроме полярных ситуаций несомненной достоверности высказывания и веры в истинность высказывания, постулируемой волевым решением при отсутствии оснований, в большинстве случаев можно говорить о некоем «верознании», основанном на не вполне достаточных основаниях[6]. Поэтому значительно большая, чем может показаться изначально, часть того, что мы привыкли именовать «научным знанием» относится к научной вере. (Но при этом, будучи не вполне достаточно обоснованными эти суждения, могут тем не менее, быть истинными).
Современный французский астроном Жан Ковалевский в своей статье «Наука и религия» пишет, что как ученый он понимает общую методологию научных исследований своих коллег, работающих в других отраслях знаний, но в 99% случаев он неспособен проверить их опыты или понять их конкретные теории. Однако, он доверяет коллегам и полученным ими результатам, так же как они ему, в частности, по той причине, что в итоге вся сеть отношений между различными науками представляет целостную согласованную глобальную систему результатов научного познания. Как христианин, он не имеет личного мистического опыта и глубоких богословских познаний, но верит в истинность двухтысячелетней традиции, вобравшей в себя огромнейшее количество личных опытов духовной жизни, свидетельств об истинности христианского учения и представляющей гармоничную и внутренне согласованную систему[7]. В сказанном Ж. Ковалевским отчетливо прослеживается, под несколько иным углом зрения, мысль о том, что научное и религиозное знание основываются пусть не на исчерпывающих, но достаточно веских основаниях в пользу своей истинности.
Одно из принципиальных различий между научными теориями в естествознании, теориями в гуманитарных науках и религиозным знанием состоит в мере принципиальной возможности и в мере растянутости во времени экспериментальной проверки теории, равно как и неоднозначности интерпретации результатов проверки. Скажем, в аэродинамике правильность теорий, на которые опирались при проектировании самолета, быстро обнаружится в виде: «полетел — не полетел»[8]. Относительно марксизма до сих пор спорят, была ли сама теория ошибочна или ее неверно воплощали. Проверкой правильности религиозного учения о том, как надо спасать душу служит результат: в рай или в ад попал тот, кто следовал этой религии. Эмпирический результат в последнем случае остается достоверно не известен кому-либо, кроме самого субъекта.
Итак, наука в значительной мере состоит из относительных истин, из утверждений научной веры, а религиозное знание также содержит набор не всегда доказуемых, но возможно истинных высказываний. Означает ли это, что надо руководствоваться принципом «главное истинность знания, а процедуры, с помощью которых оно было добыто, не важны», стирая всякую грань между научным знанием, религиозным знанием и всеми иными формами ненаучного знания?
Конечно, истинность утверждения, казалось бы важнее, чем метод, которым эта истинность обосновывается. Однако, для того чтобы некоторое высказывание, в истинность которого я верю, было принято всеми (а не только верующими в то же, что и я) в качестве истины, необходимо соблюдение определенных методологических процедур получения знания. В науке это научные методы познания, в теологии к рациональному дискурсу добавляется Откровение и рецепция теологических учений Церковью, соборным разумом. Только это может служить в глазах, соответственно, ученых или богословов, гарантией истинности того или иного высказывания.
Отличие между наукой и теологией состоит в том, что методология науки сознательно стремится минимализировать число принимаемых на веру предпосылок, оставив в их числе лишь приемлемые для максимально широкого круга рационально мыслящих людей[9]. Credo науки строится с учетом «бритвы Оккама» и за счет этого истины науки становятся максимально интерсубъективными. В этом Credo содержится минимум утверждений, принять на веру которые надо не опираясь только на самоочевидность и здравый смысл (хотя этот минимум и ненулевой). Теология (религиозное учение) расширяет содержание своего Credo, вводя в него некоторые догматы, не кажущиеся самоочевидными всякому мыслящему человеку. За счет этого теология рисует более богатую и содержательную, но более «вероятностную», гипотетическую (с точки зрения критического разума) картину мироздания, способную оказаться адекватным описанием реальности, которое не может во всей полноте дать обезбоженная, нерелигиозная наука. (Например, наука не решает вопрос о существовании ада и рая, а в недоступной научному познанию реальности они, как я убежден, существуют).
Еще шире раздвигает объем произвольных допущений фантазия философа, творческого человека, создателя нового учения об устройстве мира. С точки зрения теологии, учащей, что только одна картина мира истинна, т.е. соответствует объективной реальности, так же как существует только одна истинная астрономия или химия, эти полеты фантазии суть искаженное восприятие реальности. С точки зрения конфессионально не ангажированного разума, не обладающего по этой причине критерием (пусть и догматически вводимым у теолога) для различения истинного суждения от ложного, учение спиритизма или теософии теоретически может оказаться самым адекватным описанием реальности, о чем мы, однако, лишены возможности узнать с несомненной достоверностью. Теолог добавит, что помимо «слепой» веры в истинность только одной религии, сравнительное богословие дает ряд косвенных рациональных свидетельств в пользу истинности одной веры и ложности другой (мера внутренней непротиворечивости догматики, исторические свидетельства и т.д.).
Религиозное знание, таким образом, располагается где-то между высказыванием о реальности, порожденным произвольной догадкой, «наитием» и научным знанием. К научному знанию (научной вере) его приближает, а от произвольной догадки отдаляет наличие «недостаточных, но серьезных оснований (П. Вайнгартнер). Строгого критерия демаркации, жестко и однозначно отделяющего «более обоснованное» научное знание от «менее обоснованного» религиозного, а последнее от беспочвенных фантазий, не существует. Тем не менее мы способны более-менее удовлетворительно отличать их друг от друга.
Единственным способом рационалистической, критической оценки истинности некоторых эмпирически непроверяемых утверждений о бытии, содержащихся в религиозном знании, может быть их объясняющий потенциал, эффективность и простота теории: теория загробного воздаяния обосновывает необходимость вести нравственную жизнь гораздо проще и логичней, чем это делается в громоздких построениях нерелигиозной этики, креационизм пока убедительнее дарвинизма объясняет происхождение homo sapiens. (Хотя надо признавать и опасность деградации религиозного объяснения феноменов до лапидарной формулы «Все от Бога»).
На мой взгляд, теология не должна отрицать или добиваться запрета критического научного испытания тех догматических истин, которые принципиально допускают возможность такой проверки. Если я, будучи православным богословом, уверен в абсолютной истинности креационистского учения, то никакие добросовестные научные изыскания, направленные на проверку теории происхождения человека не обнаружат ничего противоречащего креационизму, наоборот, эти исследования только обогатят его эмпирическими подтверждениями. Оптимальная форма взаимоотношений науки и религиозного учения состоит в нахождении равновесия между двумя крайностями. Не следует отказываться от критического научного исследования под тем предлогом, что истина уже есть в догмате веры. Истинный догмат не будет опровергнут, но будет обогащен научным знанием. Более того, история показала, как происходила реинтерпретация некоторых натурфилософских положений христианского учения, не сопровождавшаяся при этом ревизией основ веры. Таким образом, правильно воспринимаемый теологами научный критицизм не есть кощунственное посягательство на устои веры, он способен освобождать теологию от ложных толкований Св. Писания и выполнять роль «адвоката дьявола»[10]. В то же время при всей плодотворности критического метода, он не должен превращаться в тенденциозный поиск способов изгнать саму возможность сверхъестественного объяснения.
Особенностью, отличающей религиозное знание от научного, принято считать претензию на неопровержимый и окончательный характер утверждений о сущем, провозглашаемых религией. Сделаем, однако, три необходимые оговорки. Во-первых, опровергающее религиозный догмат событие представляется хотя и практически невероятным, но теоретически вообразимым. Во-вторых, возможности небуквального истолкования сакральных текстов открывают путь для их реинтерпретации в случае наступления события, которое кажется фальсифицирующим, опровергающим их. В-третьих, наличие неопровержимых и непроверяемых утверждений (догматов) в реальном научном знании делает бессмысленным выделение их присутствия в качестве «специфической особенности» религиозного знания. Рассмотрим эти аспекты подробнее.
В религиозном знании содержатся догматы различного вида. Одни из них относятся исключительно к учению о Боге, о сверхъестественном. Эти догматы основаны на Откровении. Их можно признать принципиально нефальсифицируемыми, так как невозможно вообразить фальсифицирующее эти высказывания событие (например, демонстрирующее ложность учения о Триипостасности Бога или о двух природах во Христе) — кроме, конечно, нового сверхъестественного откровения, настолько убеждающего всех и каждого, что оно не будет принято за галлюцинации или происки демонов.
Высказывания, содержащиеся в таких религиозных догматах дескриптивны, т.е. содержат утверждения об объективной реальности, но метафизичны или умозрительны, принятие решения об их истинности или ложности опирается не на эмпирическую базу. (Хотя, для полноты картины отметим, что, например, догматы о двух природах и о двух волях во Христе получили в теологии рационалистическое обоснование путем сравнения суммы логических следствий, вытекающих из гипотез об истинности или ложности этих догматов. Наличие монофизитов и монофелитов доказывает нам, что убедительность этих доводов была не равна убедительности рационально обоснованной и эмпирически подтвержденной теории).
Но такие догматы являются объектом только теологических изысканий, научное знание в принципе не занимается ими и не имеет здесь соприкосновения с религиозным знанием.
Существенно иначе обстоит дело с религиозными догматами, описывающими соприкосновение сверхъестественного и посюстороннего мира, — для верующего они неопровержимы, но потенциально опровергаемы, хотя вероятность события опровержения для религиозного человека равна нулю. Учение о сотворении человека Богом потенциально опровергаемо окончательным научным обоснованием истинности гипотезы о происхождении человека от обезьяны, с восстановлением всех недостающих звеньев перехода. Т.е. фальсифицирующее догмат событие вполне вообразимо, подобно тому как вообразимо (но совершенно невероятно) некое событие, опровергающее закон постоянства скорости света или теорию, согласно которой горение есть химический процесс окисления с участием атомов кислорода.
Вторая оговорка относительно абсолютной истинности и неизменности догматов религиозного знания состоит в следующем. Век за веком сталкиваясь с фальсифицирующими событиями, библейская натурфилософия и библейская версия истории человечества не отвергались, а реинтерпретировались путем новых толкований, которые теологи объясняли как более точное уяснение смысла неизменно истинного Св. Писания. История христианской мысли демонстрирует, сколь труден и длителен был путь выбора между буквальным и иносказательным пониманием того или иного высказывания.
Однако принципиальная неполная интерсубъективность религиозного знания и неоднозначность толкования истин откровения связаны не только с неоднозначностью, многовариантностью экзегезы, с поиском верного соотношения аллегорического и буквального толкований. Это проблема не только методологическая — найти единые правила толкования высказываний, принимаемых религиозной верой, — но и личностная. В соответствии с христианским учением уровень персонального понимания истин откровения прямо увязан с личным духовным совершенством познающего субъекта — это онтологическая неполная интерсубъективность. Согласно церковному учению о познании истины, святому подвижнику в силу его личных духовных качеств доступно более полное понимание божественных истин, нежели человеку маловерному и грешному. Объективность научного знания казалось бы предполагает его полную интерсубъективность. Однако, как было показано М. Полани[11], здесь также имеют место некоторые существенные оговорки, связанные с присутствием в науке феномена, обозначаемого им как «личностное знание».
Хотя научному знанию, в противоположность религиозному, приписывается адогматизм и отсутствие «неприкасаемых» для критического пересмотра положений, в реальности это не есть специфическое отличие первого вида знания от второго. В науке имеются два вида фактически не подлежащих критическому пересмотру утверждений: методологические предпосылки, делающие в принципе возможным процесс научного познания («убеждение в том, что мир подчиняется законам... вера в то, что существующее в мире многообразие может быть сведено к некоему единому началу... а также убеждение в том, что могут быть найдены способы отличить истину от заблуждений...»[12]); теории и объяснения, истинность которых доказана настолько надежно, что вероятность их пересмотра представляется невозможной. (Я даже не упоминаю о жестких запретах на некоторые виды научных исследований, когда поиск истины считается противоречащим требованиям политкорректности или этики).
Различные концепции в философии науки делали акцент либо на реально происходящем процессе накопления наукой абсолютно достоверных положительных знаний, либо на происходящей в процессе познания достоверной и окончательной фальсификации ложных гипотез. Хотя окончательно установленные или окончательно отвергнутые истины науки иногда вновь пересматриваются в ходе научных революций, в нормальных условиях запрет посягать на эти основы строго соблюдается в научном сообществе. В социальном плане неприятие сообществом богословов (или шире — сообществом верующих) субъекта, оспаривающего некоторые религиозные истины или видоизменяющего их, традиционно было еще более жестким. Конечно, нельзя сравнивать инквизиционные костры далекого прошлого с отношением к «еретикам» в научном сообществе. Однако, хотя абстрактно в науке вроде бы и нет запретных для сомнения или пересмотра утверждений, ученый, дерзнувший, скажем, предложить новую модель вечного двигателя, рискует подвергнуться остракизму не менее, если не более строгому, нежели современный теолог-модернист в церкви.
И уж конечно, абсолютно нефальсифицируемой, принципиально неопровержимой верой остается атеизм, включая «методологический атеизм». Допущение в отдельных случаях вмешательства Бога, изменяющего естественный ход событий, творящего чудо означает на языке логики частноутвердительное высказывание «некоторые S есть P». Если это высказывание ложно, то истинно противоположное ему «все S не есть P». Всё происходящее в мире не есть результат Божественного вмешательства. Это утверждение, хотя бы в силу невозможности полной индукции, недоказуемо. Истинность всех дальнейших рассуждений зависит от истинности или ложности исходной посылки, поэтому степень научной достоверности теорий и объяснений на базе «методологического атеизма», нисколько не выше теорий и объяснений на основе альтернативного исходного допущения о Божием вмешательстве.
Замечу, что в истории науки достаточно примеров того, как построенные на ложном исходном допущении теории существовали веками и удовлетворительно согласовывались с опытными данными. Таким образом, попытки объяснить возникновение и распространение христианства чисто земными причинами могут оказаться подобными истории Птолемеевой системы, век за веком нагромождавшей эпициклы для всё более и более точного описания движения небесных светил.
Но Птолемеева система в конце концов рухнула, обнаружив свою несостоятельность, а вот как с возможностью научно доказать Божественное вмешательство? Отвечу: если в качестве исходной методологической установки принят методологический атеизм — невозможно! Его особенностью является, используя попперовский термин, принципиальная невозможность фальсификации, опытного опровержения. Если исследователем принята и с железобетонной уверенностью соблюдается установка «объяснять все явления естественными причинами», то даже явление Бога во плоти или иное чудо не убедит его в существовании сверхъестественного — как атеиста из притчи в «Братьях Карамазовых», который, попав на тот свет, заявил: «это противоречит моим убеждениям». Замечу, что принципиальная неопровергаемость, нефальсифицируемость теории является не ее достоинством, а слабостью, или, по К. Попперу, признаком ненаучности.
В последнее время наблюдается новая тенденция в отношениях нерелигиозных ученых к теологии, к богословской мысли. Вместо объявления религиозного знания ложным, несоответствующим действительности учением о реальности его провозглашают одним из многих, равно имеющих право на существование способов субъективного восприятия реальности, в отношении которых неприменимы категории истинности-ложности, как в отношении художественного творчества. Вместо заблуждающихся богословы становятся интересными людьми с интересными мнениями. Эти мнения, однако, не соотносимы с реальным бытием и в этом смысле (подразумевается, но не высказывается вслух) ничего не говорят о реальности, но только о своих авторах. Это очень сходно с релятивистской атакой на научный реализм. «Эпистемологический релятивизм можно определить как доктрину, согласно которой среди множества точек зрения, взглядов, гипотез и теорий относительно одного и того же объекта не существует единственно верной, той, которая может считаться адекватной реальному положению дел в мире. Да и искать ее не нужно, полагают релятивисты, поскольку все эти точки зрения и все эти теории являются равноправными и равноценными. Поскольку к некоторым типам интеллектуальной деятельности людей (например к искусству) идея равноценности различных направлений и течений оказывается применимой, очевидно, что в основании доктрины релятивизма лежит стремление отрицать наличие у науки особого эпистемологического статуса, на котором настаивала классическая эпистемология»[13].
В этом смысле теология в самооценке более близка к рационализму, к научному реализму, утверждая, что ее суждения о существующем соответствуют реальным объектам и их истинной природе, т.е. не являются плодом конвенциональных соглашений, не имеющих онтологической связи с описываемым объектом. Релятивистские теории истины, на первый взгляд, оказывают услугу теологии тем, что релятивизм принижает научное знание, лишая его статуса объективного, реального знания, более адекватного, чем вероятностное, не имеющее достаточных обоснований религиозное знание. Но этот же релятивизм не принимает претензии самого религиозного знания на истинность — религиозные доктрины превращаются в субъективные мироощущения.
Точка зрения, радикально противополагающая научное знание и философские системы, выраженная в свое время А.Л. Никифоровым, может быть рассмотрена и применительно к сопоставлению науки и теологии. А.Л. Никифоров полагает, что по своей структуре философская система может не отличаться от естественнонаучной теории. Однако исходные определения и принципы научной теории подвергаются эмпирической проверке, и в ходе этой проверки выясняется, что они представляют собой не просто лингвистические соглашения, а подлинные описания реального положения дел. Система же философских определений и соглашений не подвергается и не может быть подвергнута такой проверке, она всегда остается в плоскости языка, следовательно, не может рассматриваться как описание реальности. Именно благодаря тому, что философские утверждения не представляют собой интерсубъективно проверяемых описаний, они и не являются общезначимыми — в том смысле, что каждый, кому понятно их значение, должен соглашаться с ними. Согласно А.Л. Никифорову, «эмпирически констатируемый плюрализм философских систем, направлений, концепций неопровержимо свидетельствует о том, что философские утверждения не находятся в истинностном отношении к миру. Если бы в сфере философии речь могла идти об истине, то плюрализм был бы невозможен: давным давно была бы выделена истинная система философии — философская парадигма, которая объединила бы вокруг себя подавляющее большинство философов всех стран, и развитие философии пошло бы точно так же, как происходило развитие конкретных наук. Но этого до сих пор не произошло. Более того, именно в ХХ в. — веке громадных успехов науки и экспансии ее во все сферы человеческой деятельности — резко возросло и разнообразие философских систем и направлений»[14].
Применительно к нашей теме, множественность религиозных учений есть несомненно реальный факт. Однако, означает ли это, что никакая философская или богословская система в принципе не может адекватно выражать истинное знание о наиболее общих основах и законах мироздания? На наш взгляд, А.Л. Никифоров напрасно отождествляет невозможность эмпирической проверки[15] высказываний философской теории (или религиозного учения) с невозможностью рассматривать их как описание реальности.
Конечно, утверждение, обоснованное в соответствии с действующими на настоящем уровне развития науки требованиями, должно признаваться истинным всяким рационально мыслящим субъектом. Так например, концепция корпускулярно-волнового дуализма природы света теоретически обоснована и экспериментально подтверждена, поэтому никто не может не признавать ее, не жертвуя рациональностью мышления. Напротив, православное учение об исхождении Св. Духа эмпирически не проверяемо и рационально не доказано с такой степенью убедительности, чтобы оно стало общепризнанным. Последнее однако, не означает, что православный догмат не может соответствовать истинному положению дел, а католическое филиокве или мусульманская доктрина о безипостасности Божества — быть ошибочными. Сам по себе факт многочисленности религий, излюбленный антирелигиозный аргумент, ровным счетом никак не опровергает возможности того, что только одно религиозное учение истинно — имея в виду истину как соответствие высказывания действительности.
Показательно, что в последнее время идеи плюрализма в постмодернистских вариациях пытаются применить и к научному знанию. Е.А. Мамчур, обращаясь к этой проблеме, пишет, что «...сталкиваясь с многообразием концепций и мнений, классический рационализм ставил вопрос: каково истинное положение дел? Постмодернизм полагает, что этот вопрос не имеет смысла... Это отказ от идеала объективности научного знания и утверждение доктрины культурного и когнитивного релятивизма»[16]. Она также подчеркивает, что целью ученых на всех этапах научного познания было «разрешить» конкуренцию между различными теоретическими концепциями, достигнуть монологичности. До сих пор не известно ни одного случая, когда ученые согласились бы с ситуацией плюрализма концепций и отказались от поисков единственно верной точки зрения[17]. Однако и для религиозных учений характерным всегда было стремление настаивать на единственности истинной религии, стремление обратить все народы в эту религию.
Невозможность победы единственно верной точки зрения в философии и в религии объясняется не только и не столько невозможностью ее рационального обоснования, сколько вмешательством внерациональных факторов — социальных, эмоционально-психологических, в силу которых потерпевшая поражение в дискуссии сторона не спешит принять учение победителей. «Если бы геометрия так же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность, то мы так же спорили бы против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Евклида и Архимеда, которые мы называли бы тогда бреднями и считали бы полными ошибок»[18].
Однако противник релятивизма, реалист в науке представляется в глазах общественного мнения трезвомыслящим ученым-рационалистом, а вот тот кто утверждает, что применительно к проблемам устройства мироздания, бытия Божия, смысла жизни истина только одна (и, соответственно, только одна вера истинна, а прочие ложны) и истинное различимо от ложного воспринимается тем же секулярным общественным мнением как неразумный религиозный фанатик.
Несмотря на все многочисленные и часто кажущиеся логически безупречными доводы релятивистов, реальная история науки и техники все же показывает, («практика — критерий истины»), что наше научное знание о мире соответствует действительности. Оно позволяет вести осознанную целенаправленную деятельность с прогнозируемыми результатами (что бы ни говорилось о «вероятностности», «недостаточной обоснованности» научного знания, опирающегося на принятые на веру исходные аксиомы, не обладающее способностью доказать исчерпывающую достоверность своих утверждений и т.д.). Стало бы катастрофой разрушение границы между научным знанием и т. наз. паранаукой, псевдонаукой, равно как и религиозным знанием. Наша задача состоит не в стирании линии демаркации, а в том, чтобы показать, вопреки атеистической традиции трактовки религиозного знания как «мифологизированного восприятия реальности», что религиозное знание есть знание, информация о мире, невозможность научной проверки которой ничего не говорит о его истинности или ложности (бытие Бога, загробное воздаяние и т.д.). Кроме того, жесткое недопущение в науке гипотезы о Божественном вмешательстве не есть логически и эпистемологически обоснованная необходимость, а всего лишь идеологический отголосок прошлого противостояния, когда наука с боями высвобождалась от опеки и контроля со стороны Церкви.
В заключение выскажем некоторые соображения о социальных аспектах проблемы истинного знания в теологии и в науке. Достоверное знание об устройстве мироздания не может существовать изолированно от аксиологических и деонтологических (ценностно-целевых) установок, которые признает для себя субъект знания. По этой причине уверенность в обладании истинным знанием неизбежно оборачивается стремлением использовать это знание для преобразования мира, для упрочения добра и искоренения зла. Применительно к религиозному знанию на протяжении многовековой истории религий это оборачивалось неприятием других вероучений в качестве ложных и пагубных для души. В качестве примера из истории христианства в ХХ в. приведем позицию католических консерваторов во главе с архиепископом Марселем Лефевром, не принявших ряд идей II Ватиканского собора, в частности, идею межконфессионального диалога. Их логика в данном вопросе сводилась к следующему: диалог означает двусторонний обмен знаниями, сведениями, которые не обладает партнер по диалогу. Между тем, Католическая церковь есть хранительница полноты Истины Христовой, поэтому никакая другая конфессия не может дать ей, нечто, чего не было бы в этой полноте. Католическая церковь может только просвещать инаковерующих светом своей истины, но ей нечем у них обогатиться. Хотел бы обратить внимание не на негативные социальные последствия такого подхода (его конфликтогенность), но на ее полную логичность с эпистемологической точки зрения. В противоположность этому социально «удобный» и толерантный экуменизм, в гносеологическом плане вынужден более или менее явно соглашаться с тем что «все религии одинаково истинны» или же что «вопрос об истинности применительно к различным мировосприятиям, отразившимся в разных религиях, вовсе некорректен». На мой взгляд, последний вариант очень схож с постмодернистскими попытками похоронить реализм в науке, заменив его релятивизмом, о которых так хорошо написано у Е. Мамчур.
Что касается социальных последствий претензий науки на обладание достаточным объемом знаний для занятий социальной инженерией, опыт построения социалистического строя по рецептам марксизма-ленинизма является, конечно, самым ярким примером, но различные варианты сциентизма, попыток организовать общество по правилам и законам всеведущей науки начались задолго до социалистического эксперимента и далеко не исчерпали себя.
Конечно, примерами того, как фанатики, вообразившие, что им открыта полнота научной или религиозной истины, заливали Землю кровью, полна история человечества. Но, с точки зрения теории познания, все эти трагедии просто не имеют никакого отношения к разрешению вопроса о том, может ли в принципе наука или религия быть источником знаний, утверждающих те или иные ценностно-целевые установки, этические начала в качестве объективно необходимых, соответствующих объективной реальности (будь эта объективная реальность волей Божьей, предписавшей некие заповеди или же научным расчетом, доказавшим, что некие социальные нормы оптимальны для существования и развития общества).
В качестве аналогии можно привести следующий пример. История медицины дает множество примеров ошибочных воззрений о здоровом образе жизни, подавляющее большинство человечества не знает или игнорирует предписания медицины относительно здорового образа жизни. Но из этого никоим образом не следует, что не существует объективно истинного, обусловленного физиологическими особенностями человеческого организма и психики человека оптимального режима жизнедеятельности человека. Другое дело, что будучи императивно навязываемым обществу внешней силой, самый разумный и рациональный, научно обоснованный здоровый образ жизни с большой степенью вероятности столкнется с иррациональным бунтом в духе Достоевского: «нет, к черту благоразумие, дайте нам по своей дурацкой воле пожить!»
Интересно, на мой взгляд, что глубокая и интересная работа, проделанная К. Поппером в философии науки и в теории познания, в социальном плане свелась к тому, что ни одна теория не должна слишком уж категорично претендовать на истинность. Развитие науки есть только вытеснение более ошибочных теорий менее ошибочными, но все же содержащими ошибки — а поэтому никто не вправе претендовать на переустройство мира как обладатель (недоступного никому) истинного знания о том, как мир должен быть устроен[19]. Реалист-ученый и реалист-богослов, убежденные в адекватности объекту и монистичности научного и религиозного знания, должны, как и я сам, признать данную попперовскую позицию несовместимой со своими воззрениями.
Таким образом, и для науки и для теологии, и для научного и для религиозного знания претензия на обладание единственно верной точкой зрения на реальность чревата попыткой навязывания этой точки зрения всему миру, а релятивизация знания, отказ от идеала объективности знания обедняет ценность последнего, в том числе, его практическую ценность. И в науке, и в теологии идет вечный поиск оптимума между насилием над инакомыслящими, инаковерующими и всепримиряющим и всеобесценивающим лозунгом «все по своему правы, единой объективной истины нет вовсе».
Опубликовано в журнале «Вопросы философии» № 10, 2008. – С. 66-77.
[1] Этот подход к проблеме нашел отражение в моей статье «Религиозное знание, объективное знание о религии и наука» //Вопросы философии, 2004, № 11. С. 65-80.
[2] Вайнгартнер П. Сходство и различие между научной и религиозной верой // Вопросы философии № 5, 1996. С. 90-109.
[3] См., например: Шохин В.К. Христианские догматы и философская рациональность: конфронтация или синэргия? //Богословие и философия: аспекты диалога. М., 2001. С.185-223.
[4] Локк Дж. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1985. С. 354.
[5] Вайнгартнер П. Сходство и различие между научной и религиозной верой. С. 101
[6] «Верознание» не тождественно «относительной истине». Первое - потенциально абсолютная, но не доказанная истина, вторая - истина, вполне обоснованная на данном этапе развития науки, но потенциально содержащая и ложные утверждения.
[7] Kovalevsky J. Science et religion // Science et quête de sens. Paris, 2005. P. 186-187.
[8] На самом деле, возможность быстрой и однозначной оценки теории с помощью experimentum crucifix в естествознании представляет скорее счастливое исключение, чем постоянно имеющуюся у исследователя возможность.
[9] В этом я согласен с замечанием, высказанным Г.Д. Левиным в полемическом ответе на мою статью. (Левин Г.Д. Можно ли религиозное знание приравнять к научным гипотезам? // Вопросы философии, 2004, № 11. с. 82).
[10] В традиционном католическом процессе подготовки к принятию решения о канонизации святых назначается специальный «адвокат дьявола», которому надлежало приложить все усилия по поиску в биографии потенциального святого доводов против его причисления к лику святых, доказывать сомнительность совершенных усопшим чудес и т.д. С ним состязается т. н. «адвокат Божий».
[11] Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985.
[12] Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. М., 2004. С. 219
[13] Мамчур Е.А. Цит. соч. С.14
[14] А.Л. Никифоров Философия как личный опыт// Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания. М., 1990. С. 311-312.
[15] В невозможности хотя бы частичной проверки и косвенных подтверждений я, впрочем, тоже сомневаюсь. См., напр., Вайнгартнер, цит.соч., с. 102: «то, во что верят, имеет подтвержденные следствия», например красота и гармония Вселенной как следствие существования Создателя.
[16] Мамчур Е.А. Цит. соч. С. 41
[17] Там же. С. 225.
[18] Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении// Сочинения в 4- х т. Т. 2. М., 1983 С. 97.
[19] Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004. С. 289: «Я думаю, мы должны привыкнуть к мысли о том, что на науку следует смотреть не как на «корпус знания», а как на систему гипотез, т. е. как на систему догадок или предвосхищений, которые в принципе не могут быть оправданы и которыми мы пользуемся до тех пор, пока они выдерживают проверки. Мы никогда не имеем права сказать, будто знаем, что они «истинны», «более или менее достоверны» или хотя бы «вероятны»».
