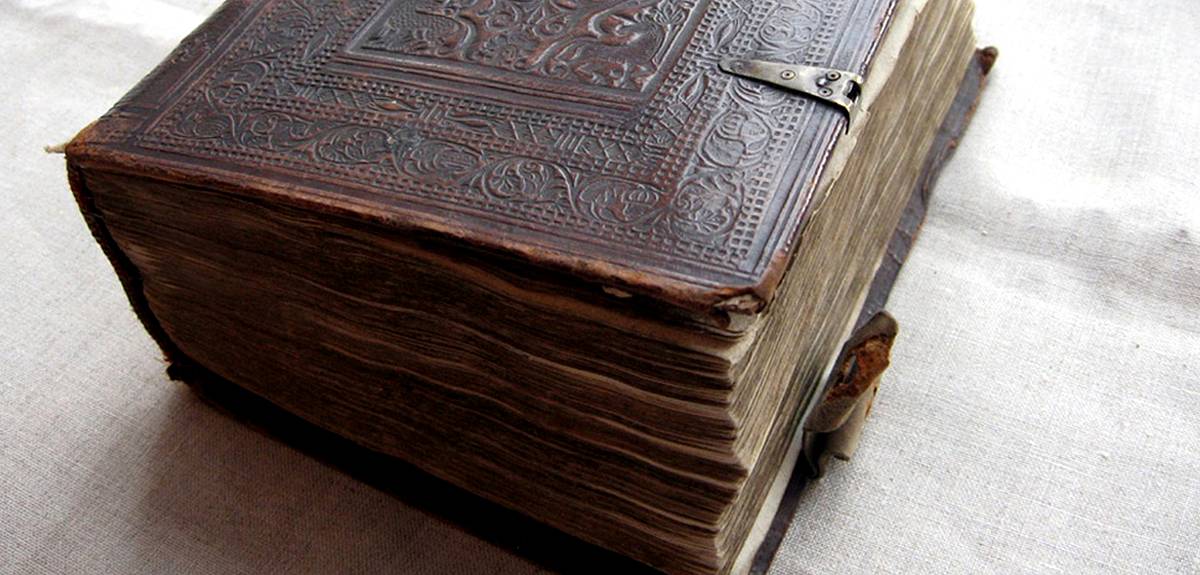
Вера в богодухновенность Священного Писания является одним из центральных пунктов исповедания Православной Церкви[1]. Однако как это ни парадоксально, «нельзя не отметить и полную неразъясненность этой истины в богословии»[2]. В самом же Писании богодухновенность (от греч. θεόπνευστος) упоминается лишь в общих словах, что подразумевает предпонимание аудитории (2 Тим. 3:16, 2 Пет.1:20,21). Нет сомнений, что понимание вдохновения здесь в принципе соответствует раннеиудейскому понимаю, особенно близкому Иосифу Флавию (Contr. Ap. 1:37-41)[3].
Однако, какова природа феномена богодухновенности? Относится ли богодухновенность к самим словам или только к общей мысли? Какова роль человеческого автора текста? Насколько богодухновенность зависит от перевода? Исключает ли богодухновенность любые ошибки автора-человека? Богодухновенны ли редакторские правки библейского текста? В одинаковой ли степени богодухновенны библейские книги? Сегодня эти вопросы звучат особенно остро, потому что благодаря библеистике мы знаем о сложной истории формирования и передачи библейских книг.
По этим вопросам Православная Церковь, к сожалению, так и не сформулировала официальную позицию, даже на поместном уровне. И если пятнадцать лет назад православные христиане не были знакомы с вызовами библейской критики, то в наши дни ситуация кардинально изменилась в связи с широкой доступностью переводных работ западных библеистов. Члены Церкви сталкиваются с массивом выводов историко-критической школы, которые вступают в жесткое противоречие с устоявшимися консервативными представлениями о библейских текстах. Даная проблематика охватывает множество тем: авторство библейских книг, историческая точность событий, археологические данные, библейская текстология и другие.
Следует прояснить, что говоря о богодухновенности Писания, имеет смысл говорить не об автографах библейских текстов, а о тех разнообразных текстуальных формах Библии, что дошли до нас. Ведь оригиналы библейских текстов нам не доступны, а точная реконструкция первоначальных форм священного текста невозможна[4]. Сам по себе факт недоступности оригинала, взятый в богословском измерении, может уже пролить свет на природу богодухновенности Св. Писания.
Понимание богодухновенности в Древней Церкви
Безусловно, древнехристианские авторы и святые отцы обращались к теме богодухновенности Писания. Для доникейских авторов характерно вербальное понимание богодухновенности, при котором роль человека минимизируется. Священные писатели и пророки выступают в качестве пассивных передатчиков, как музыкальные инструменты, на которых играется мелодия[5]. Этот же образ характерен и для более поздних Отцов[6].
Необходимо отметить, что понятие θεόπνευστος в античности подразумевало пребывание поэта или пророка в особом экстатическом состоянии, во время которого через него вещают музы или боги. Однако в целом Церковь не приняла этого представления о бессознательном и экстатическом характере вдохновения[7].
Представление о вербальной богодухновенности Писаний было выражено у представителей александрийской школы: Климента Александрийского и Оригена[8], чей взгляд имел определяющие влияние на более поздних богословов[9]. Согласно Оригену Премудрость Божья проникает собой все Писание «вплоть до малейшей черты»[10]. Этот же взгляд позже разделял и свят. Григорий Богослов считая, что “точная забота Духа распространяется “вплоть до отдельной черты и буквы” Священного Писания (Oratio II.105). При этом они не считали библейских авторов лишь пассивными передатчиками, но сохраняли за ними свободу воли и активность. Однако, Ориген не допускал возможности каких-либо ошибок в Писании. Как люди боговдохновенные, евангелисты не могли допустить каких-либо ошибок памяти[11], или написать что-либо ложное, обманчивое[12]. Не допуская в библейских книгах никаких ошибок, Ориген тем более отвергает возможность противоречий[13].
Как отмечал дореволюционный исследователь святоотеческого понимания богодухновенности Д.С. Леонардов: «Ориген, впрочем, не мог отрицать видимых несовершенств в содержании и форме св. книг. Неточные выражения, ошибки переписчиков, солецизмы встречаются в св. книгах очень нередко. Но все эти трудности быстро исчезают пред аллегорией. … Так каждое несовершенство находит для себя объяснение и оправдание у Оригена, в связи с сокрытым под буквой духовным смыслом. «Анагогическое» толкование с выделением духовного смысла нейтрализует все противоречия»[14].
Позже идея богодухновенности как Божественной диктовки свыше, встречается у св. Иоанна Златоуста (Hom. In Johan. 1. 1), бл. Иеронима (Ep. 120. 10 // PL. 22. Col. 997) и бл. Августина (Enarr. in Ps. LXII 1; De consensu Euang. I. 35. 54). О невозможности ошибок и противоречий в Писании ясно говорит свят. Иоанн Златоуст[15]. Аналогично высказывается свят. Кирилл Александрийский: «Всё в Священном Писании … точно, и совершенно ничего нет в нем напрасного»[16] и бл. Августин: «Примем наилучшее, твердо при этом разумея, что никто из евангелистов не мог ни солгать, ни впасть в заблуждение, стоя на столь великой и священной высоте своего служения»[17].
Примечательно, что вместе с тем, те же самые Отцы отмечали, что каждая библейская книга имеет индивидуальный отпечаток человеческого авторского стиля. Так, св. Ириней Лионский комментируя 2 Кор. 4:4, отмечает: «… Апостол часто, по быстроте речи и стремительности находящегося в нем духа, делает перемещения в словах»[18]. Аналогичным образом высказывался о стиле ап. Павла и св. Иоанн Златоуст: «Довольно неясно он изложил свои мысли оттого, что хотел высказать всё вдруг»[19]. «Иеремия, — писал блаженный Иероним, — кажется грубым в сравнении с Исаией и Осией» (In Ierem., prol.). Так же бл Иероним, комментируя неточность перевода и ошибочную атрибуцию пророчества из Зах. 11:2,13 пророку Иеремии в Мф. 27.9,10, говорит о евангелисте Матфее: «для него важно было не отследить все слова и слоги, а изложить смысл учения»[20]. Разбирая аналогичные примеры из Нового Завета, бл. Иероним делает вывод: «Из всего этого ясно, что Апостолы и Евангелисты в переводе Ветхого Завета искали мыслей, а не слов, и не слишком заботились о порядке и строе речей, – только было бы ясно существо мысли»[21]. Согласно бл. Августину, каждый евангелист «держится своего, присущего ему одному стилю и способу выражения. … Как кто запомнил, или как кому было по душе изложить – короче или пространнее, но, безусловно, одну и ту же мысль, - так тот и излагал»[22].
Как замечает словенский православный философ Горазд Коциянчич: «Восточным отцам церкви всегда было ясно, что библейская вербализация Слова является не точным выражением, а милостивым уподоблением, Божьим сошествием к людям, в мир человеческих мыслей и слов… Бог обнаруживает Себя в человеческих словах и в то же самое время остается сокрытым в Своей инаковости»[23].
Септуагинта особо ярко иллюстрирует собой проблему соотношения перевода Писания и его богодухновенности. Как отмечает в своей монографии И.С. Вевюрко: «боговдохновенность Септуагинты, понимаемая как следствие незаурядного, чудесного происхождения перевода, к началу V в. была общепризнана»[24]. Тем не менее, очевидные противоречия между еврейским Танахом и греческой Септуагинтой требовали какого-то объяснения. И их попытался дать бл. Августин. По мнению этого Отца Церкви все типы расхождений между Септуагинтой и Танахом были провиденциальными, предусмотренными Богом: «все, что в еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, — все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков; все же, что есть у Семидесяти и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками»[25].
Любопытно сравнить это мнение бл. Августина со словами бл. Иеронима, который заметил, что переводчики Септуагинты убоялись величия Божественных имен, отнесенных к Младенцу в оригинальном еврейском тексте пророчества Ис. 9:6, и не внесли их в свой перевод[26]. Примечателен и тот факт, что, не смотря на нормативность LXX для Древней Церкви как богодухновенного перевода ВЗ, по свидетельству бл. Иеронима, во всех церквях его времени книгу Даниила читали по переводу Феодотиона в виду того, что он был гораздо ближе к арамейскому тексту книги, чем богодухновенная LXX[27].
Сегодня мы понимаем насколько сложен этот вопрос, потому что Септуагинта одновременно содержит и ошибочные прочтения еврейского прототекста из-за языковой интерференция арамейского и древнееврейского языка, и иногда передает более древний еврейский прототекст, чем Масоретский текст (МТ), а так же демонстрирует восхождение к отличному от МТ еврейского текста и текстуальное разнообразие рукописей, которые существовали уже в древности[28].
Как замечает А. Фокин в своем обзоре святоотеческих мнений о богодухновенности: «Однако хотя все греческие церковные писатели и богословы признавали факт богодухновенности, в большинстве своем они не вдавались в детальное исследование вопроса о ее характере или степени воздействия на святых писателей»[29]. Обращение к этим древним свидетельствам показывает, что воззрения авторов святоотеческого периода не характеризуются систематическим подходом к этому вопросу. Дальнейшего развития учение о богодухновенности в Православной Церкви не получило.
Феномен богодухновенности в православном богословии XIX-XX вв.
Исторически православный восток на протяжении второго тысячелетия оставался в стороне от рационалистических методов изучения Св. Писания, которые возникли в Европе на почве расцвета гуманизма в эпоху Возрождения. Литературная и культурная программа гуманизма может быть сведена к лозунгу «Ad fontes — К источникам», который стимулировал интерес к первоисточникам и их филологическим штудиям. Реформация в Европе привела к систематическому историко-филологическому изучения Св. Писаний и зарождению библейской критики.
Проф. Афинского университета Савва Агуридис считает, что одной из причин утраты интересна православных богословов высокого и позднего средневековья к филологическому изучению Св. Писания как самостоятельной дисциплины, стало литургическое «поглощение» Писания в Церкви. Став, частью богослужения, Писание перестало быть самостоятельным водителем Церкви, как это было в «золотой век» патристики[30].
Православные богословы вновь обратились к вопросу о богодухновенности лишь в XIX веке, когда наступил расцвет русской православной библеистики на фоне общего развития библейской критики в Европе. Дореволюционная отечественная академическая богословская школа в данном вопросе ограничилась подробным рассмотрением святоотеческого взгляда на богодухновенность и критическим анализом католических и протестантских концепций богодухновенности в обстоятельных работах Д. С. Леонардова. В собственном ответе на проблемы богодухновенности русское богословие тогда не продвинулось, и предложение, сделанное в статье П. И. Лепорским в «Православной богословской энциклопедии»[31], понимать взаимодействие Божественного и человеческого в феномене богодухновенности по аналогии взаимоотношения двух естеств во Христе, можно считать итоговым для дореволюционного периода.
Вербальной концепции П.И. Лепорский отказывал в удовлетворительности в виду её очевидному противоречию слишком разных по стилистике и качеству библейских книг, а так же присутствию в Библии разного рода неточностей — исторических, хронологических, топографических, и разногласий у священных писателей. П.И. Лепорский задается вопросом: «Как, спрашивается, можно объяснить эти и подобные погрешности и разногласия, раз признается, что каждое слово продиктовано было писателю непосредственно Св. Духом?»[32]. Кроме того, Лепорский указывал на то, что вербальная теория богодухновенности согласно своей же логике должна распространяться не только лишь на библейский автографы, но и на их переписчиков, редакторов и переводчиков.
Данный подход был поистине новаторским в русской богословской традиции. Именно этой концепции позже будут придерживаться отечественные православные богословы, затрагивающие вопрос феномена богодухновенности. Так высказывался Б. И. Сове на Афинской всеправославной конференции 1936 г.: «Механически-буквальное понимание Богодухновенности священных книг - достояние иудейского и консервативного протестантского богословия, не может быть защищаемо православными богословами, как уклоняющееся в своем роде «монофизитство», а должно быть исправлено в свете Халкидонского догмата о богочеловечестве»[33]. Аналогичным образом высказывался и А. В. Карташев, обсуждая документальную теорию Пятикнижия[34].
Прот. А. Князев, так же исходя из принципа синергии Божественного и человеческого начал в духе Халкидонского догмата, делал выводы в отношении характера библейских истин: «По своему предмету свидетельство Священного Писания может быть исключительно религиозным, то есть относиться только к области, познание которой возможно лишь в порядке откровения свыше. Поэтому Священное Писание и свидетельствует о Боге и о Его отношениях к миру, то есть об истинах религиозных и метафизических; но совсем не призвано к свидетельству об истинах научных, то есть о тех, которые доступны человеку на естественных путях познания»[35].
Выдающийся русский православный библеист XX века, еп. Кассиан Безобразов, определял природу Библии следующим образом: «Священное Писание есть Слово Божие. Оно содержит Божественное Откровение. Через него Бог говорит человеку. Его двуединую богочеловеческую сущность, присутствующую во всякой теофании, во всяком явлении Бога тварному миру, нельзя никогда упускать из внимания. Аналогией может послужить Халкидонское учение о соединении естеств во Христе – неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно»[36].
Позже еп. Кассиан уточнял свою позицию следующим образом: «Что подразумевается под божественным вдохновением? Разве принятие божественного вдохновения исключает всякую возможность какой-либо ошибки или несовершенства в определенной боговдохновенной книге? Я пытался поддерживать такую позицию в своих работах, опубликованных на русском и французском языках в период с 1928 по 1937 год. Однако сегодня я не считаю, что такая позиция может быть поддержана православным богословом»[37]. При этом он замечал, что «несовершенства письменного Откровения суть не что иное, как кенозис Божественного элемента, который столь же неизбежен в Божественном вдохновении, как и в других аспектах Богочеловеческого элемента»[38]. Таким образом, в несовершенстве Священного Писания несовершенный элемент исходит из ограниченной природы человеческих личностей, даже когда они становятся орудием Божественного Откровения, так как и в этом случае они не выходят за пределы своей собственной природы
Греческие православные библеисты в XX веке выражали аналогичный взгляд на природу богодухновенности. Профессор Афинского университета Василиос Веллас (1902–1696) задавался вопросом: «Не противоречит ли понятию откровения и Божественного вдохновения тот факт, что некоторые части Священного текста, которые благодаря критике определены как неисторичные? . . . Мы способны воспринимать откровение только в вопросах доктринальных и моральных истин, а не там, где есть вопросы исторического, геологического или археологического значения. Мы всегда должны помнить, что Священное Писание-это не геология, не физика и не история, а религиозная книга, единственной целью которой является учение о религиозных и нравственных истинах»[39].
Современный православный американский библеист Прот. Теодор Стилиануполос пишет в том же ключе: «Так же, как Христос, будучи един, имел и божественную и человеческую природы, так и Священное Писание, словесная икона Христа, соединяет в себе и божественный и человеческий аспекты. Божественный аспект мы находим в спасительных посланиях Писания о Боге, человечестве, Благой вести, церкви, благодати, трудах и надежде грядущего Царства. Это спасительное послание не просто провозглашает абстрактные идеи, но являет нам реальность как слово Божье, которое, проповедуемое и принимаемое с верой, силой Духа становится словом живым и преображающим. Человеческий же аспект можно найти в конкретных человеческих языках, на которых написана Библия, в различных литературных формах и мастерстве ее авторов и редакторов, в ее культурных и концептуальных ограничениях, свойственных любой человеческой деятельности»[40].
Протопресвитер Иоанн Брек указывает, что типологический подход видения (теория) духовного смысла Писания, свойственный экзегезе Отцов, “избегает фундаменталистских заблуждений типа непогрешимости и вербальной богодухновенности, настаивая на синергийном процессе, в русле которого Писание составлено и истолковывается. Это дает возможность полностью оценить человеческий элемент в библейском свидетельстве, принять и даже подчеркнуть богословское разнообразие, которое делает каждого апостольского писателя “автором” в самом полном смысле этого слова. Этот подход настаивает на решающей роли Божественного вдохновения в сотворении или формировании библейских письменных трудов. Теория опознает в написанном Слове Божием, так же как и в Самом воплощенном Логосе, его сущностную “теандричность”, или Богочеловечность. Поэтому для нее нетрудно примирить традиционное утверждение о богодухновенности даже с наиболее крайними формами историко-критического и литературного анализа»[41].
Критика синергийного подхода
Необходимо заметить, что синергийная концепция Богочеловеческой природы Писания подвергается критике. Так, прот. Дмитрием Юревичем замечает: «Вопрос о соотношении божественного и человеческого в момент богодухновенного акта, к сожалению, не может быть сведен к аналогии с формулировкой халкидонского ороса. Во-первых, по причине того, что состояние богодухновенности не было постоянным и неизменным. Нам хорошо известны случаи, когда священные авторы впадали в прегрешения и были даже наказуемы, но потом милуемы Богом (ярчайший пример — святой пророк Давид и составленный им 50 псалом). Дальнейшая аналогия будет уж совсем неуместна в силу того, что Господь Иисус был во всем подобен нам, кроме греха, и воипостазировал человеческую природу в свою Божественную ипостась, чего не может быть в акте богодухновенности»[42].
Следует заметить, что критика аналогии не достигает своей цели, потому что синергийная концепция Богочеловеческой характера Писания использует халкидонский христологический догмат, во-первых, лишь как подобие (а не отождествление!) неразрывного соединения Божественного и человеческого в одном субъекте (с сохранением свойств каждого) в моменте акта вдохновения свыше, и во-вторых, чтобы показать, что человеческое не упраздняется Божественным в момент их неслиянного соединения.
И если воипостазирование человеческой природы в Божественную ипостась Слова исключало ошибки в когнитивных способностях человеческого ума Христа, оно не исключало неукоризненые страсти и слабости человеческого естества Сына Божьего, которые в данной концепции могут служить аналогией несовершенства и естественных ограничений умственно-творческой деятельности священных писателей.
Критикуя историко-критическое прочтение Ветхого Завета А.В. Карташевым, прот. Дмитрий Юревич так же замечает: «Сформулированное святоотеческое понимание богодухновенности противоречит допускаемой как теорией Графа-Велльгнаузена, так и А.В. Карташевым идее использования священными авторами народных мифов, легенд, сказаний и эпосов при формулировке божественных истин»[43]. Справедлив ли данный вывод? Бл. Августин отмечал: «через человека Он и говорит по-человечески» (О Граде Божием, XVII,6), а это выражается и в том, что замечает бл. Иероним Стридонский: «… в святых писаниях … говорится о многом сообразно не с истиною дела, а применительно к воззрениям того времени, к которому относятся изображаемые события» (Толкование на Иеремию, кн. V, ХХVIII:10,11). В этом же ключе говорит и Климент Александрийский «Приди, о безумец … Я покажу тебе Слово и мистерии Слова, рассказывая о них в соответствии с твоими представлениями» («Увещание к язычникам» 12, 119, 1). В связи с этим интересны рассуждения Оригена: «Слово имеет целью, главным образом, возвещать о связи в делах духовных, как совершившихся, так и долженствующих совершиться. И вот, где Слово нашло, что исторические события могут соответствовать этим таинственным предметам, там Оно воспользовалось ими (историческими событиями) для сокрытия глубочайшего смысла от толпы; где же исторический рассказ, написанный ради высших тайн, не соответствовал учению о духовных вещах, там Писание вплело в историю то, чего не было на самом деле, – частью невозможное вовсе, частью же возможное, но не бывшее в действительности» (О началах, VIII, 15, «Филокалия»).
Возвращаясь к вопросу о месте мифа в Библии, рассмотрим лишь один показательный пример. В Библии мы неоднократно сталкиваемся с архаичным образом водного чудовища левифана, который упоминается в связи с усмирением взбунтовавшегося моря (Иов 7:12, 40:12, Пс.73:13-14, 103:26, Ис. 27:1, Иез. 29:3-5). В этих текстах он выступает как обобщенная метафора сил зла, противостоящих Богу. В Ис. 51:9 этот образ, например, применяется к враждебному Египту. Однако откуда в древней библейской литературной традиции появляется этот явный мифический образ? Корни темы борьбы божества с персонифицированным водным хаосом[44] в древнеизраильской литературной традиции следует искать в ханаанской мифлогии и угаритских источниках, которые в свою очередь испытали влияние Месопотамской культуры[45].
Однако важно отметить то, что в Ветхом Завете образ левиафана демифологизируется. Происходит очищение древнего мифа от политеизма и сакрализации природы. Таким образом, архаичный миф превращается в литературный образ-метафору для служебного использования. Происходит переинтепретация старого мифа и левиафан становится лишь одним из удивительных творений Бога, которое даже при всем своем желании не в силах угрожать могуществу Бога[46]. Следует помнить, что Отцы Церкви мыслили Писание как выражение божественного «снисхождения» (συγκατάβασις) к немощи людей. Поэтому подобное приспособление к человеческой культуре никоим образом не противоречит богодухновенности Писания.
Однако наиболее распространенное возражение против данной концепции можно сформулировать так: как понять, что в Писании от Бога, а что обусловлено человеческим фактором? В классическом понимании богодухновенности такой вопрос не возникает, потому что человеческий элемент авторства совершенно минимизирован. Прот. Теодор Стилианопулос отвечает на этот вопрос таким образом: «Четко отделить божественный элемент в Писании от человеческого невозможно. Читатель должен воспринять библейское свидетельство в его целостности и сам отличить важнейшие темы, касающиеся спасения и связанных с ним вопросов, от истории, хронологии, языка и культуры. … Где именно и когда провести черту между спасительной истиной Писания и ее человеческими выражениями, особенно в важных и противоречивых вопросах, – дело богословской и нормативной интерпретации в жизни церкви. Подобные трудности, порой вызывающие кризисы в церковной истории, поднимают вопросы, которые необходимо разрешать, опираясь не только на мнения специалистов, но на общее мнение церкви о том, какова воля Бога относительно Его народа»[47].
Примером такой нормативной интерпретации Библии в истории Церкви является её отношение к рабству. В Писании рабство нигде не осуждается как ужасное социальное явление. В Торы мы находим законы регулирующие рабство (см. Исх. 21:1-27), а в Новом Завете христиане-рабы призываются к послушанию своим господам (Эф. 6:5, Кол. 3:22, 1 Тим. 6:1). Однако Церковь в итоге осудила рабство как бесчеловечное явление, не смотря на то, что буквальное прочтение Библии вполне дает основание воспринимать его как норму, если только не понимать культурно-историческую обусловленность этого явления.
Обратимся к другому примеру. Ап. Павел, обсуждая вопрос недопустимости молитвы женщины с непокрытой головой и отращиванию мужчинами длинных волос, апеллирует к существующему обычаю античной культуры (1 Кор. 11:13-15). И если для преп. Феодора Студита, жившего в VIII-IX вв., слова ап. Павла «если муж растит волосы, то это бесчестье для него» являются «Божественным повелением»[48], то для свят. Филарета Московского, жившего в XIX веке: «Это изречение Апостола не есть заповедь, а только указание на природу и последующий природе обычай»[49]. Таким образом, прочтение Писания в Церкви в некоторых аспектах исторически изменяется сообразно своему времени.
Заключение
Сопоставляя святоотеческое учение о богодухновенности с синергийной концепцией Богочеловеческой природы Писания в духе Халкидонского догмата, можно предположить, что, в сущности, они не противоречат друг другу. И наверняка древние Отцы Церкви в целом согласились бы с ней. Разница лишь заключается в понимании степени соучастия священных писателей в деле авторства написания священного текста и сохранения за ними несовершенства их когнитивных способностей и знаний. Однако общим место между взглядом древних отцов Церкви и современных богословов является безошибочность Св. Писания в вопросах вероучения и нравственного этоса. И это представляется нам ключевым моментом.
Понимание Богочеловеческой, синергийной концепции богодухновенности как кенозиса Божественного откровения, позволяет православным исследователям проявлять интеллектуальную честность в отношении фактов несовершенства библейских текстов и быть открытыми к синтезу историко-критического метода и святоотеческой экзегезы.
[1] 2 член «Послания патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере» (1723 г.).
[2] Протоиерей Алексий Князев. О боговдохновенности Священного Писания. Православная мысль. — La pensee orthodoxe. Труды православного Богословского института в Париже. Вып. VIII. P., 1951.
[3] Томас Зёдинг, «Богодухновенность Писания в западном богословии» // «Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе». Μ.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. С. 177.
[4] Существующий критический текст из серии Nestle-Aland, хотя с наибольшей долей вероятности совпадает с автографом НЗ, будучи компилятивным, не совпадает полностью ни с одной существующей рукописей НЗ.
[5] Athenagor. Legat. pro christian. 7. 3; 9.1; Iust. Martyr. Or. ad Graec. 8, Hippol. Rom. ,De Christ. et antichr., 2)
[6] Например, у св. Иоанна Златоуста In Joann. Hom. I.1; ср. De Laz. conc., 6.9
[7] А. Фокин. “Альфа и Омега”, № 36, 2003.
[8] Orig. De princip. IV 7, Select. In Psalm. I.4, PG 12, 1080–81; Clem. Alex. Cohoratio IX 82,
[9] Благодрая Василию Великому и Григорию Богослову первые двадцать глав «Добротолюбия» составлены из текстов Оригена, относящихся к библейской герменевтике. Иоаннис Панагопулос, Толкование Священного Писания у Отцов Церкви, 301 стр..
[10] Филокалия 2,4, ср. 1,28.
[11] Comm. in evang. Math XVI. 12 (XIII, 1409).
[12] Филокалия 1,14, Comm. in Johann. VI, 18 (XIV, 257).
[13] In Matth. Select, tom. II (М. XIII, 831).
[14] Леонардов Д.С. Теория богодухновенности Библии в александрийской школе. Теория Оригена. // Вера и разум, 1907. № 4.
[15] In Ierem. X, 23; n. 2 (M. LVI, 156)., In Gen. XXXI, 3 (M. LIII, 286), In Acta apostolorum: XXII, 1 (M. LX, 171).
[16] О поклонении в духе и истине. Кн. Х, с. 453. PG 68, 665C.
[17] «О согласии евангелистов», Глава XIII, 43.
[18] Св. Ириней Лионский, «Против ересей» кн. III, гл. VII, 2.
[19] Cв. Иоанн Златоуст. «Беседы на Послание к Ефесянам», 11,3.
[20] Бл. Иероним Стридонский. «Письмо к Паммахию о наилучшем способе перевода», VII.
[21] Там же.
[22] Бл. Августин. «О согласии евангелистов», Глава XII 27,29.
[23] Gorazd Kocijancic, “He Who Is and Being: On the Postmodern Relevance of Eastern Christian Apophaticism,” in The Christian East: Its Institutions and Thought, ed. Robert F. Taft, S.J. (Rome: Orientalia Christiana Analecta 251, 1996), 646-47.
[24] Вевюрко И.С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли. — М.: Издательство Московского университета, 2013. 69 с.
[25] Там же, с. 71.
[26] Бл. Иероним Стридонский. Комментарий на пророка Исайю 3.9.16-17. CI. 0584, SL 73 3.9.6.33.
[27] Книга пророка Даниила в русском переводе с греческого текста: С введ. и примеч. / [Пер.] П. Юнгеров. - Казань : Центр. тип., 1912. - [4], 62 с.
[28] См.: Emanuel Tov. The Greek and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint. Brill, 1999.
[29] А. Фокин. “Альфа и Омега”, № 36, 2003.
[30] Савва Агуридес, «Православная церковь и современные исследования Библии» // «Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе». Μ.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. С. 134.
[31] Православная богословская энциклопедия. Том 2, стлб. 729. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу "Странник" за 1901 г.
[32] Там же.
[33] Сове Б. Тезисы по Свящ. Писанию Ветхого Завета // Путь. 1936/1937. № 52. С. 67-69
[34] Карташев А.В. Ветхозаветная библейская критика. Париж, 1947, с. 66,70,73. Любопытно отметить, что свящ. Д. Юревич обвиняет Карташева в том, что тот «выдвигал оригинальную идею» богодухновенности, тогда как эта идея задолго до того была представлена еще в самом начале XX века Лепорским в Православной энциклопедии. XV Ежегодная богословская конференция
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета:
материалы 2005 г. Т. 1. М., 2005, с. 29-36.
[35] Прот. Алексий Князев. Что такое Священное Писание? О боговдохновенности Священного Писания // Православие и Библия сегодня. Сборник статей. К.: Центр православной книги, 2006. С. 51,
[36] Принципы православного толкования Слова Божия // Путь. 1928. № 13. С. 5-6
[37] Bishop Cassian, 'Das Studium des Neuen Testaments in der Orthodoxen Kirche', in Kyrios (1960/61): 24 and 31.
[38] Там же.
[39] B Vellas, Bibelkritik und kirchliche Autorun Procès-Verbaux, edited by H Alivizatos (Athens, 1939), 141
[40] Новый Завет: Православная перспектива. Писание, предание, герменевтика, -М.: ББИ, 2008. С. 39.
[41] Альфа и Омега, № 4 (11), 1996
[42] XV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: материалы 2005 г. Т. 1. М., 2005, с. 29-36.
[43] Там же.
[44] Тиа́мат — женское олицетворение первобытного океана-хаоса в шумеро-вавилонской мифологии. Изображалась в виде дракона или гидры с семью головами. Убивший её Мардук из её тела создаёт небо и землю.
[45] Кассуто У. Эпическая поэзия в Древнем Израиле. // Библейские исследования. М.,1997. С.133.
[46] Вайс М. Библия и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации. М.,2001. С.93.
[47] Прот. Теодор Стилианопулос. Новый Завет: Православная перспектива. Писание, предание, герменевтика, -М.: ББИ, 2008. С. 40.
[48] Преп. Феодор Студит. Послание 27. К Никите, патрицию.
[49] Нечто о ращении власов. / Филарет, митр. Московский и Коломенский, свт. Прибавления к Творениям св. Отцов, 2 №19 (1860) 5. Раздел: II. Учение христианской нравственности. 241—245 с.
